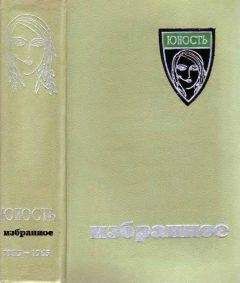Анатолий Преловский
О, как много нужно урана
космодромной моей стране!
Просыпаюсь я рано-рано,
укрепляю рюкзак на спине,
а на грудь надеваю ящик
на брезентовых ремешках —
умный ящичек,
говорящий
на урановых языках.
По тропинкам солнца и ветра
и мои маршруты легли.
Он забрался глубоко в недра,
самый звездный металл земли.
В темноте,
не сухой, не мокрой,
коротает свои года:
распадается втихомолку,
попадается не всегда.
Но как прочно б ни окопался,
его выдаст его же суть…
Стоп!
Следок!
Неужель попался?
Ну, приятель, не обессудь!
И покамест в моем приборе
Излучение зуммерит, я гадаю:
радон, иль торий,
или сам со мной говорит.
Я на помощь зову науку —
точный график, трезвый расчет:
все равно ведь
этого друга
вычисленье мое подсечет.
А потом лопатой, лопатой,
шурфом в землю иду — вдогон.
Извернулся!
Ушел, проклятый!
Дым в глаза мне пустил радон!
Семь потов с меня снял
и скрылся,
все надежды мои распылил,
глубже в землю, чудак, зарылся,
на погоню меня распалил.
Я ложусь переждать усталость,
злость скрипит на зубах песком.
Сколько там еще верст осталось?
Отдышаться б перед броском…
Ни воды не надо, ни хлеба,
ни признательности какой.
Отдышаться б…
С овчинку небо,
и до Марса подать рукой.
Сколько стоит медвежья шкура!
День дороги —
без дымокура,
по чаще, в комарне, без карт.
Случай.
Пуля,
Винтовка.
Фарт!
Страх — когда он встает на дыбки.
Мягкость пальца,
твердость руки.
Выстрел!
Радость — лег: наповал!
Ужас — мертвый навстречу встал…
Жизнь пережить — передернуть затвор,
и десять новых — добить в упор
и ждать,
не веря ни в тишь, ни в кровь —
встанет,
и все повторится вновь:
десять жизней
и десять смертей.
Плюс за выделку — семь рублей.
Слово к слову вяжется,
Речью, дни наполнены.
А тебе не кажется.
Что часто мы размолвлены!
— Молчанье — золото!
Ведь вздор — такое взять на плечи.
Скажу тебе: я с давних пор
Пою рожденье речи!
Пою и жду рожденья слов.
За гранью немоты
Они идут в венке из снов,
Из яви и мечты.
И пахнут зноем, и зимой,
И солнцем, и травой
И, словно молнии, летят
Над самой головой!
Я поднял дерево.
Оно росло не стоя,
Лесок его, как в битве, потерял.
Оно не говорило со звездою,
И соловей его не удивлял.
Оно, скажу, ползло в лесу заветном,
Что кронами встречает синеву,
Оно ползло,
Униженное ветром,
Им брошенное намертво в траву!
О нем уже не помнила округа,
Ликуя, вешней свежестью дыша…
Я поднял это дерево,
Как друга.
О, как заговорила в нем душа!
Деревья сонные качаются.
Ну, что с того, ну, что с того!
А что с того, что не прощается
Мне — по недоле — ничего!
Куда-то ветер тучи гонит,
Куда-то в дальние края…
А тут недоля на ладони,
И это, друг, ладонь твоя!
По синь-дорожкам, по проталинкам
Уйдет недоля из недоль…
Ответь мне: как в ладони маленькой
Лежит, горит такая боль!
Когда над бездной замирают кони
И вьюк, сползая, давит им на круп,
Мой голос хрипл, мой голос непреклонен,
Мой голос груб.
Когда в реке, в гудящем полноводье,
Взметнутся кони надо мною вдруг,
Я бью коней, повиснув на поводьях.
Моя рука сильней, чем их испуг.
И мы идем среди громадин горных.
Бездушным царством неба и камней.
А на закате я на остров дерна,
Как утопающих, тащу коней.
Я их кормлю,
Лицо секут мне гривы,
И я терплю, мой голос тише слез,
Когда, рванув мешок нетерпеливо.
Они просыплют на землю овес.
Я лишь шепчу им:
— Мне бы с вами в поле;
Там травы, словно реки, глубоки…
Я мою им шершавые мозоли,
И сахаром кормлю я их с руки.
Падет звезда из темноты кромешной,
Шурша, потухнет дымный след ее…
У гор своя, особенная нежность
И проявленье нежности свое!
— Любовь моя, тревожная любовь,
прошу тебя,
уйди,
не прекословь!
Неужто, я тебе других нужней?
Ведь люди, есть разумней, и нежней.
Уйди, любовь! Ты мне не по плечу.
Ты слишком тяжела,
а я хочу
легко шагать,
без груза,
без тебя,
не мучась, не ревнуя, не любя.
— Я не могу уйти, не обессудь.
Ты понимаешь?
Суть…
Я воздух твой,
я твой насущный хлеб.
Не будь Меня, ты был бы глух и слеп,
ты был бы камнем, деревом, травой,
ты был бы всем,
но не самим собой.
Покинет женщина тебя —
я остаюсь,
друзья тебя покинут —
остаюсь.
Я гордая.
И все же остаюсь,
— Ну что ж,
я слабый спорщик.
Я сдаюсь.
А у Назыма был
голос протяжный.
Руки добрые были у Назыма.
У Назыма был характер бродяжий,
а в глазах была
веселая сила.
Что любил он?
Он любил час, в который
можно лишь необъяснимо проснуться
и увидеть город.
Странный.
Готовый
от мальчишеского солнца задохнуться.
Он с друзьями любил за стол усесться,
смаковал вина грузинского терпкость.
Говорил:
«Пью за врачей!
За то, что сердца —
пусть обычного —
они не могут сделать!..»
Только разве он бы смог жить с обычным!
Нет,
конечно, не смог бы!
Это ж ясно…
Он любил погарцевать в тосте пышном.
Он придумывал шутки
и смеялся,
как ребенок,
шоколадку нашедший,
на два города тепло излучая…
А еще он любил
добрых женщин.
(Правда, злые ему тоже встречались)…
Называли добряком его иные.
Называли чудаком его нервным.
Я не буду спорить,
но знаю поныне:
добряком он
не был.
Чудаком
не был.
Человеком и поэтом был.
Всего лишь.
Человеком и поэтом.
И только…
Если он говорил о ком-то:
«Сволочь!!» —
значит, это была сволочь.
Точно…
Говорят, что были проводы щемящи.
Невесомые цветы легли
на плечи.
И звучали похоронные марши.
И текли заупокойные речи…
Он не слушал.
Он лежал.
Смотрел на солнце.
И не щурил глаз наивных и дерзких.
Было гулко.
Было очень высоко.
Так высоко, как бывает только в детстве…
Потеряла женщина
мужа.
Потеряла женщина
сына…
Я не верю в эту смерть,
потому что
как же может
земля
без Назыма!