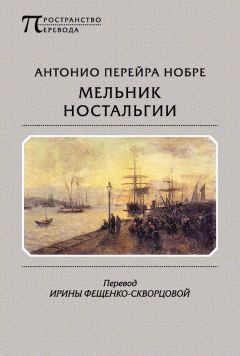Ознакомительная версия.
Коимбра, 1889
Вот сосны выступают из тумана,
Семидесятилетние стволы.
За нами надзирают неустанно,
Как Пана чрезвычайные послы.
Под люстрою луны мерцая странно,
Далёко от хулы и похвалы,
Слагают ноты, строго и пространно,
Там, в вышине, где небо и орлы.
Как вытянулись, Талейраны гор!
Вам свойственно, судьбе наперекор,
Не гнуть спины ни перед кем на свете!
Ах, как сладка мечта моей душе,
Чтоб стать у Пана новым атташе,
В дипкорпусе, в зелёном кабинете!
Коимбра, 1888
Не замечали? В исступленьи страстном
На проводах, что вдоль пути висят,
Орут пичуги, утро ли, закат,
Иль свет луны в эфире, ей подвластном.
В придачу к политическим миазмам
По проводам, где птицы голосят,
Плывёт интриг любовных томный чад:
Министр отнюдь не чужд земным соблазнам.
Передаёт: «Мятеж вчера подавлен. —
– Убито… – Ранено… – В тюрьму отправлен…
– Целую! – Жду! Во вторник, не забудь!..»
Все новости для птиц остались втуне.
Горланят пуще прежнего, болтуньи.
Антонио! И ты таким же будь.
Колония, 1891
Друзья мои, уставшие нести
Свой крест – на неудачу осуждённых,
Нас много, для погибели рождённых,
На грани суицида мы почти.
Хочу я предложение внести:
Об Ордене почётном побеждённых!
Со света со всего собрать бы оных,
Чтоб стали все пропащие в чести.
Пусть общность доли сблизит, как магнит.
Чу! Колокол мистический звонит!
То монастырь раскрыл для нас объятья!
Нам сеять хлеб судьбой ещё дано,
Растить лозу, чей сок творит вино.
Тоску откинем прочь! Мы вместе, братья!
Коимбра, 1889
Я в океане. Лунный свет струится,
Но очертания родной земли
Во тьме пропали, штиль на море длится,
Шум португальских вод затих вдали.
Куда плывёшь? Вокруг чужие лица,
И радости себе ты не сули…
И только пар, что над водой клубится,
Внимает мне… О, сердце, не боли!
Ты. Лузитания[50], идёшь, родная,
Под парусом! Прощаюсь, уплывая
На судне Катринета[51]. Прочь, тревога!
Покой царит вокруг, и небо чище,
Моряк, на мачту лезь, скорей, дружище,
И «Франция»[52] кричи! О, ради Бога!
Атлантический океан, 1890
В каюте я, а, может, в колыбели?
И няня рядом села на скамью?
Укачивает так, что терпишь еле:
Шторм заменил кормилицу мою.
Корабль трепещет, тросы ослабели.
Сжимаю Библию в объятьях… Пью…
Твой дед, чьи руки в море задубели,
Сказал бы: ты позоришь всю семью!
Смелей! Ведь ты страдаешь, разве нет?
И ожидаешь в будущем страданья.
Зачем же этот смертный страх и бред?
За жизнь цепляться?! Оцени и взвесь:
Хоть мы не знаем, жалкие созданья,
Куда идём, всё ж там – милей, чем здесь.
Бискайский залив, 1891.
Оливково-зелёный океан.
На этих водах думаю о доме,
Как засыпал я в сладостной истоме,
А утром запах молока – духмян…
А здесь холодный от воды туман,
Туман – и ничего, на мили, кроме…
И, может, завтра в водяном разломе
Исчезну, странный гость, никем не зван.
Вслед – ни молитвы близких, ничего…
Мой дом – там детство, я вернусь в него,
Сестра там шьёт, в саду поёт цикада.
Карлота старая, закрой окно,
Начни мне сказку, ту: «Давным-давно…»
Ах, не мешайте плакать мне, не надо…
Ла-Манш, 1891
Любимая, знай, суета во всём:
И в славе, и в роскошествах вельможи.
Коль буду над другими вознесён,
Подругам станешь сразу же дороже.
И милостыней душу не спасём:
Всё суета, гордыня, и, похоже,
Хоть и жестоко говорить о сём,
Но матери любовь – тщеславье тоже.
Удача не всегда добра, как ныне,
И буду гинуть я в морской пустыне
Без помощи, с бедой наедине.
Их – осмотрительность ко мне вернула,
Отворочусь от лести и посула —
И это ли не суета во мне?
Северное море, 1891
А жизнь для всех – печальная юдоль:
Иллюзии, напрасные дерзанья…
Хоть много их, столь низко павших, сколь
Не видящих в грядущем наказанья.
Да, вынести любую можно боль…
Твой дар? твой сын? бесплодны притязанья.
И даже это выдержать изволь:
Умерших наших скорбные терзанья.
Затупит время боли остриё,
Отпев невесту, схоронив её
Во флёрдоранже, сломанным левкоем.
Но боль души – крадётся по пятам…
Спасенье от неё – за смертью, там,
В монастыре: зовётся он покоем.
Париж, 1891
Не опоздает тень. Там, на посту, высоко,
Луна стоит, бессменный часовой…
И тень сейчас сойдёт по мостовой
Из крепости небес под ветерком с востока….
Какой-то шум? Она! Подходит осторожно.
В цветах живых, и руки на груди,
И волосы, с пробором посреди,
Назад отброшены, колышутся тревожно.
Одежда – ветерку послушное ветрило…
Был день: её в лесочке пожелтелом
Впервые я увидел в платье белом:
При жизни как она носить его любила!
И отражает свет, и кажется рассветом!
Вот, петухи встречают новый день!
И голосить вам по ночам не лень?
Ещё б вам спать и спать в курятнике прогретом.
Вы, камни острые на полосе прибрежной,
Прелестных ног не раньте резкой гранью!..
Был голос тих, подобен щебетанью,
Таков ли он сейчас?.. осталась поступь прежней…
Уже приблизившись, облитая луной,
Помчалась прочь, как будто от погони…
«О, Клара[53]! Стой!»… Вдали, на горном склоне
Я слышу тихое:
«Пора! Пойдём со мной!»
Коимбра, 1888
Когда я вижу, как она проходит,
Худа, бледна, на мёртвую походит,
Идёт на пляж за морем наблюдать, —
Ах, сердце стонет звоном колокольным,
Угрюмым звоном, точно над покойным:
Её судьбу нетрудно угадать.
Как лист легка, как веточка сухая,
На небо смотрит изредка, вздыхая:
Снуёт там чаек острокрылых рать.
Зрачки её – малиновки немые,
Они бы в небо с ликованьем взмыли,
Да крылья не придётся испытать.
В молочно-белых рясе и берете —
Сгущённый лунный свет в том силуэте —
Как издали её изящна стать!
На пляже видя белую фигуру,
Все кумушки завидуют ей сдуру:
«Невеста! Повезут её венчать!».
Собака – компаньон её печальный,
Собаке предстоит и в путь прощальный
За ней идти, и ждать её, и звать…
В глаза с тоской ей смотрит: «Не исчезни!»,
Под кашель, частый при её болезни,
Пёс сразу начинает завывать.
И с горничной, – что толку в той особе? —
Среди детей у моря сядут обе
Там, где синей и чище моря гладь.
Дед – Океан, в глаза ей робко глядя,
Льняной свой ус рукой дрожащей гладя,
Беседу с ней стремится поддержать
Об ангелах, каких во снах видала,
О том, из-за кого она страдала…
Волна прильнёт и убегает вспять,
И сердце разрывается от горя,
Когда услышу нежный шёпот моря:
«Излечишься, лишь надо подождать…».
Излечишься? Напрасные надежды!
О, падре, умасти её одежды:
Тебе её придётся отпевать.
И тело ангела истлеет в яме,
Так рок судил – любимой быть червями,
Никем другим любимой не бывать.
Излечишься? Болезнь ей тело гложет…
Поверить в исцеление не может,
Ах, если б хоть на время забывать!
Но кашель сух, в нём столько острой муки,
Стук молотков мерещится мне в звуке,
Как будто гроб явились забивать.
Излечишься? А нос её в то лето
Стал заостряться: верная примета…
И с ужасом на это смотрит мать.
Сухие пальчики, как веретёнца…
Мать бедная, ей не поможет солнце,
Смотри! Октябрь, дни стали убывать…
Леса, 1889
Святая Ирина
(Что расцвела в Набансии в VII веке)
По девственной реке не лунная ладья,
Торит извечный путь – скользит в волнах Святая.
От золота волос волнистая струя
Сама, как жар горит, в лазурной глуби тая.
Нет слаще сна Святой, спокойней забытья,
Для влажного чела – мазь лунная, густая,
А к телу льнёт воды сквозная кисея,
Ирина по волнам скользит, скользит, блистая…
Скользит, как белый чёлн, в опал и молоко…
И, увидав её, шепнёт жасмин левкою,
Что мрамор на воде колышется легко.
Вплывает в океан…Ещё далёк восход…
И кто-то молит там, над тихою рекою,
За тех, кто в этот час – над бездной тёмных вод…
Леса, 1885
Уснула, умерла, ушла в мечты… Не троньте!
В обитель – путь её, там, в небе купола.
Молитесь за неё, поля на горизонте
И тополя у вод, в которых смерть нашла.
Так Гамлет захотел. Вы постриг узаконьте,
Зовущие её к себе колокола.
Молчите вы, дрозды, в кустах не пустозвоньте,
Укрой её теплей, грядущей ночи мгла.
О, ласковый закат, влюблённый и унылый!
За нею лишь одной бродил он дотемна,
Теперь его свеча пребудет над могилой.
Струящихся светил на небе след нечёткий:
Планеты нанизав на свой шнурок, луна,
Лишь за неё молясь, перебирает чётки.
Леса, 1888
Ознакомительная версия.