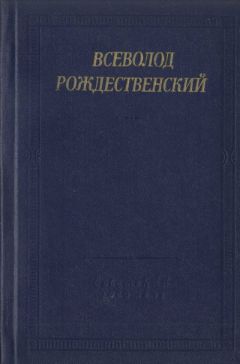64. «Хорошо улыбалась ты смолоду…»
Хорошо улыбалась ты смолоду,
Да одно лишь не по сердцу мне:
Много к вечеру хмелю и солоду
Остается на песенном дне.
Вывози мою долю богатую
На широкую лунную гать!
Всею грудью ложусь на лопату я
Поскорее ее закопать.
Надо нам оглянуться по-новому:
Видно, жизнь начиналась не зря,
Коль цветная по небу суровому
Полотенцем ложится заря.
Перепахана начисто родина,
Навсегда оттолкнулся паром, —
Пусть не плачут сирень и смородина
Под горячим моим топором!
Если избу срубили мы заново,
Крепко пахнет обструганный тес,
Хорошо мне от этого пьяного,
Золотистого духа берез.
<1926>
Есть на свете путники. Они
Не расстанутся с певучей ношей,
И летят, как жаворонки, дни,
Всё равно — плохой или хороший.
Их душа, как ветер в волосах,
Пахнет дымом древнего кочевья.
Степь поет им, в грозовых лесах
Кланяются до земли деревья.
Собирайся! Путь далекий нам.
Радуга лежит на косогоре.
Видишь город, видишь степь, а там
Синей солью пахнущее море!
Птицы петь нам будут поутру,
Яблонею звезды осыпаться,
Будем мы, как тополь на ветру,
Под грозой без памяти качаться.
И грустить не надо ни о чем.
Хорошо ведь на земле зеленой
Стать простым бродягой-скрипачом
С верною подругою Миньоной.
Был и я, как этот тополь, юн,
Непокорен, как и все поэты,
Да ведь полюбил же бурю струн,
Ленты на ветру и кастаньеты.
Полюбил тебя за то, что ты
Гордой нищенкой ушла из дому,
Что летим мы вместе, как листы,
В голубую звездную солому.
<1926>
66. ОТШУМЕВШИЕ ГОДЫ
<1923>
Крысы грызут по архивам приказы,
Слава завязана пыльной тесьмой,
Кедры Сибири и польские вязы
В кронах качают приснившийся бой.
Радиостанции. Противогазы.
Поступь дивизий. Победа. Отбой.
Красная Армия! Звезды-жестянки,
Пятиконечное пламя труда!
Помню тебя на последней стоянке,
Помню, как звали домой поезда
Стуком колес, переливом тальянки,
В села родные, в иные года.
Где вы, костры и ночная солома,
Брод на рассвете и топот копыт,
Чьи-то цветы на седле военкома,
Строчка приказа: товарищ… убит.
Всё это было… И ты уже дома.
Что же тебя по ночам бередит?
В аудиториях университета,
В солнце музеев, в асфальте дворов,
В пыльной листве загорелого лета,
В дыме редакций, контор, вечеров, —
Мне ли томиться судьбою поэта,
Мирно командовать ротою слов?
Роту иную водил я когда-то.
В песню ушла ледяная река.
За богатырку и за два квадрата
Леворукавных, за посвист клинка
И за походы — спасибо, ребята,
Сверстники, спутники в судьбах полка!
Юные сердцем! Из пламенной были
Песни, тревоги и молодость — вам,
Мы побеждали, а вы победили.
Вам с кирпичами всходить по лесам.
Стройте всё выше! Мы песню сложили —
Буря ее разнесла по сердцам.
<1926>
Когда возводят дом высокий,
Сквозной, как радиолучи,
Спеши и ты в одном потоке
Нести на жгучем солнцепеке —
Простой, певучий и жестокий —
Всё выше, выше кирпичи.
Когда грядущие кометы
Расплавят олово и медь,
Мы — неразменные монеты —
Лжецы, бездельники, поэты,
Провозгласим свои декреты
И всех научим жить и петь.
Вся наша мудрость в нашей глотке,
В глазах крылатых на восток,
В такой ямбической походке,
В такой шальной всемирной «сводке»,
Что с нами в такт стучат лебедки,
Взывает пар и льется ток.
Мы — только масло для машины,
Но если винт какой заест,
Взревут пэонные турбины,
Как жизни рокот соловьиный,
Чтоб дрогнул сердцем мир единый,
Всё сожигающий окрест.
Отныне кровь моя — гуденье
В котлах зажатого огня,
Весь мир — одно сердцебиенье,
Скольженье пил, лебедок пенье,
Галоп колес и вдохновенье,
Да, вдохновенье — для меня!
<1926>
68. «Коридор университета…»
Коридор университета —
Романтический Париж,
Где с тетрадками, Лизетта,
Ты на лекции бежишь.
Быть сарматом не хочу я,
Хоть и в Скифии рожден,
Мне науку поцелуя
Вверил некогда Назон.
Для заслуженных каникул
Покидая факультет,
Покажи мне свой матрикул,
Не декан я, а поэт.
Я тебя учить не буду
Многословной ерунде,
Ты со мной поверишь чуду —
Сердца пламенной беде.
Ты всегда была прилежной,
Догадайся в чем сама,
Ты науку страсти нежной
Сдашь в апреле на «весьма».
Между 1923 и 1926
69. «В столовой музыка и пенье…»
В столовой музыка и пенье,
Веселый чайный разговор,
А здесь и ветер, и смятенье,
И быстрых губ прикосновенье,
Неповторимое с тех пор.
Чуть только сердце ты задела,
Как, став струною под смычком,
Беспечной скрипкою запело
Мое послушливое тело
О милом, вечном и земном.
С широкошумным вздохом муки
Я отдаю себя — гляди! —
В твои безжалостные руки,
Как будто тополь, в ночь разлуки
Грозу качающий в груди.
Между 1923 и 1926
Чуть светлеет вздувшаяся штора,
Гаснут звезды в розовой ночи.
Круглый стол, сверканье разговора,
Звон тарелок, таянье свечи.
Нет, не заслужил я этой чести!
После скачки, в вихре дождевом,
Друг харит, с прелестницами вместе
Я сижу за праздничным столом.
Конь храпел… С плаща бежали струи.
Черный лес катил широкий гул…
Что ж, друзья! Вино и поцелуи
Нас мешать учил еще Катулл!
Кто бы, пряча сердце от пристрастья
Купидоном заостренных стрел,
С Музою, смеющейся от счастья,
Чокнуться глинтвейном не хотел?
Пью за синий бархат винограда,
Пью за то, чтоб возле тонких плеч
С ветром из серебряного сада
Сердце, словно бабочку, обжечь.
Пью за то, что здесь не слышно бури,
Что мое забвенное перо —
Только штрих, приснившийся гравюре
Этого волшебника Моро!
Между 1923 и 1926
«Хоть и предан я рассудку,
Ум любви не прекословит,
Не примите это в шутку,
Я люблю вас, крошка Доррит!
У меня в подвалах Сити
Три конторы. Ваше слово?»
— «Мистер Дженкинс, не просите,
Не могу. Люблю другого».
«Что другой! Отказ — а там уж
И закрыта к сердцу дверка.
Много ль чести выйти замуж
За какого-нибудь клерка?
Вот так муж. Над ним смеяться
Будут все из-за конторок».
— «Мистер Дженкинс, мне семнадцать,
Вам же скоро стукнет сорок.
Кто откажет вам в таланте
Счет вести, проценты ваши…
Но, пожалуйста, отстаньте.
Мне пора идти к мамаше…»
Между 1923 и 1926
Не счесть в ночи колец ее,
Ласкаемых волной.
Причаль сюда, Венеция,
Под маской кружевной!
В монастырях церковники
С распятием в руках,
На лестницах любовники,
Зеваки на мостах
Поют тебе, красавица,
Канцоны при луне,
Пока лагуна плавится
В серебряном огне.
Не для тебя ль, Венеция,
Затеял карнавал
Читающий Лукреция
Столетний кардинал?
Он не поладил с папою,
Невыбрит и сердит,
Но лев когтистой лапою
Республику хранит.
Пускай над баптистерием
Повис аэроплан,
Пускай назло остериям
Сверкает ресторан,
Пускай пестрят окурками
Проходы темных лож,—
Здесь договоры с турками
Подписывает дож.
За рощею лимонною
У мраморной волны
Отелло с Дездемоною
Рассказывают сны.
И разве бросишь камень ты,
Посмеешь не уйти
В истлевшие пергаменты
«Совета десяти»?
Душа, — какой бы край она
Ни пела в этот час,
Я слышу стансы Байрона
Или Мюссе рассказ.
А где-то — инквизиция
Скрепляет протокол,
В театре репетиция,
Гольдони хмур и зол,
Цветет улыбка девичья
Под лентами баут,
И Павла-цесаревича
«Граф Северный» зовут.
Здесь бьют десяткой заново
Серебряный улов,
Княжною Таракановой
Пленяется Орлов.
Гори, былое зодчество,—
Весь мир на острие.
Уходят в одиночество
Все томики Ренье!
Не повернуть мне руль никак
От шелка ветхих карт.
«Севильского цирульника»
Здесь слушал бы Моца́рт.
Скользит гондола длинная
По бархатной гряде,
А корка апельсинная
Качается в воде…
Между 1923 и 1926