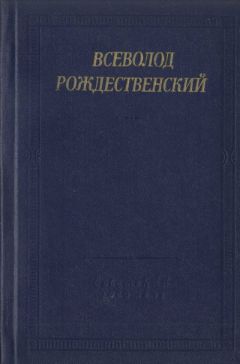72. ВЕНЕЦИЯ
Не счесть в ночи колец ее,
Ласкаемых волной.
Причаль сюда, Венеция,
Под маской кружевной!
В монастырях церковники
С распятием в руках,
На лестницах любовники,
Зеваки на мостах
Поют тебе, красавица,
Канцоны при луне,
Пока лагуна плавится
В серебряном огне.
Не для тебя ль, Венеция,
Затеял карнавал
Читающий Лукреция
Столетний кардинал?
Он не поладил с папою,
Невыбрит и сердит,
Но лев когтистой лапою
Республику хранит.
Пускай над баптистерием
Повис аэроплан,
Пускай назло остериям
Сверкает ресторан,
Пускай пестрят окурками
Проходы темных лож,—
Здесь договоры с турками
Подписывает дож.
За рощею лимонною
У мраморной волны
Отелло с Дездемоною
Рассказывают сны.
И разве бросишь камень ты,
Посмеешь не уйти
В истлевшие пергаменты
«Совета десяти»?
Душа, — какой бы край она
Ни пела в этот час,
Я слышу стансы Байрона
Или Мюссе рассказ.
А где-то — инквизиция
Скрепляет протокол,
В театре репетиция,
Гольдони хмур и зол,
Цветет улыбка девичья
Под лентами баут,
И Павла-цесаревича
«Граф Северный» зовут.
Здесь бьют десяткой заново
Серебряный улов,
Княжною Таракановой
Пленяется Орлов.
Гори, былое зодчество,—
Весь мир на острие.
Уходят в одиночество
Все томики Ренье!
Не повернуть мне руль никак
От шелка ветхих карт.
«Севильского цирульника»
Здесь слушал бы Моца́рт.
Скользит гондола длинная
По бархатной гряде,
А корка апельсинная
Качается в воде…
Между 1923 и 1926
В коридоре сторож с самострелом.
Я в цепях корсара узнаю.
На полу своей темницы мелом
Начертил он узкую ладью.
Стал в нее, о грозовом просторе,
О холодных звездных небесах
Долго думал, и пустое море
Застонало в четырех стенах.
Ярче расцветающего перца
Абордажа праздничная страсть,
Первая граната в самом сердце
У него разорвалась.
Вскрикнул он и вытянулся. Тише
Маятник в груди его стучит.
Бьет закат, и пробегают мыши
По диагонали серых плит.
Всё свершил он в мире небогатом,
И идет душа его теперь
Черным многопарусным фрегатом
Через плотно запертую дверь.
Между 1923 и 1926
Три окна, закрытых шторой,
Круглый двор — большое D.
Это мельница, в которой
Летом жил Альфонс Доде.
Для деревни был он странен:
Блуза, трубка и берет.
Кто гордился: парижанин,
Кто подтрунивал: поэт.
Милой девушке любовник
Вслух читал его роман,
На окно ему шиповник
Дети ставили в стакан.
Выйдет в сад — закат сиренев,
Зяблик свищет впопыхах.
Русский друг его, Тургенев,
Был ли счастлив так в «степях»?
Под зеленым абажуром
Он всю ночь скрипел пером,
Но, скучая по Гонкурам,
Скоро бросил сад и дом.
И теперь острит в Париже
На премьере в Opéra.
Пыль легла на томик рыжий,
Недочитанный вчера.
Но приезд наш не случаен.
Пусть в полях еще мертво,
Дом уютен, и хозяин
Сдаст нам на зиму его.
В печке щелкают каштаны,
Под окошком снег густой…
Ах, пускай за нас романы
Пишет кто-нибудь другой!
Между 1923 и 1926
75. «Что толку — поздно или рано…»
Что толку — поздно или рано
Я замолчу, —
Я пью из своего стакана,
Я так хочу.
Сплетая радость и страданье
В узор живой,
Вся жизнь моя — одно дыханье,
Единый строй.
Не говори мне: «это надо»
Иль — «должен ты».
Какой же разум есть у сада,
У высоты?
Порви мой вздох на вольной ноте,
Гаси звезду,
Ударь свинцом меня в полете —
Я упаду.
Но и в последнее мгновенье
Зрачок, горя,
Заледенит отображенье
Твое, заря!
1926
Никого не люблю — только ветер один,
Да ночлег под телегою в поле,
Только ветер один с черноморских равнин,
Да веселую вольную волю.
Да в широкой степи одинокий костер,
Да высокие звездные очи,
Да на шали твоей молдаванский узор,
Да любовь — летней ночи короче!
1926
77. «Что ж, душа, с тобою мы в расчете…»
Что ж, душа, с тобою мы в расчете,
Возвращаю гладкое кольцо.
Пусть тряхнет на позднем повороте,
Пусть ударит дождиком в лицо.
Как жилось, как пелось, как любилось —
Всё скажи с последней прямотой.
И в кого ты только уродилась
Русскою скуластой смуглотой?
О цыганка милая, когда бы
Мог я лечь к тебе в костер травы!
Но твои колени слишком слабы
Для такой тяжелой головы.
И уж не могу я верить счастью,
Если, и жалея, и кляня,
Ты глядишь с неизъяснимой страстью
Сквозь слезу разлуки на меня…
1926
78. «Сонной, глухой тишиной наливаются в августе ночи…»
Сонной, глухой тишиной наливаются в августе ночи,
Не умолкает кузнечик во мгле опустевших полей.
Реже выходим гулять мы, и встречи и взгляды короче,
Ниже мохнатые звезды, и всё мне молчать тяжелей,
Слышишь, ударилось яблоко, продребезжала телега?
Скоро созревшее слово в горячую пыль упадет.
Вот и задумай желанье, пока разгорается Вега,
Ветер, как вздох, затихает и месяц над садом встает.
1926
79. НОЧНОЙ ПЕШЕХОД
(П. А. ФЕДОТОВ)
1
Что́ стихи, что́ таинства Киприды,
Если барабаны — как гроза,
Если в пестрых будках инвалиды
Пучат оловянные глаза?
Где-то море, свежесть винограда,
Вольности священная пора,—
А вокруг сверкание парада
И громоподобное «ура!».
Павловск. Петергоф. Ораниенбаум.
Крики чаек. Темно-бурый март.
Заскрипел медлительный шлагбаум,
Веером легла колода карт.
Славного поместья арендатор,
В синей мгле — воздушном молоке —
Рвет мороз плюмажный император
Вдоль Невы на сером рысаке.
Черкает страницу цензор истый,
Кружится мазурка до утра,
И во льдах Сибири декабристы
Под землей цитируют Marat.
2
Долго ночь копила нетерпенье…
Дождь царапал льдинками виски.
Черный норд, наперекор теченью,
Всё стругал рубанком гребешки.
Ухнул выстрел. Пробкою притерло
К небу взморья бревна и гробы,
И Неве перехватило горло,
И, седая, встала на дыбы.
Крутой непогодой он выгнан из дому…
Он грудь открывает простору ветров,
Он рад этой ночи и буйству такому,
Ныряющим яликам, выстрелам, грому,
Дыханию взморья и скрипу мостов.
В прерывистом, бурном дыханье норд-оста
Шагает он в дождь, не покрыв головы,
Простой человек невысокого роста,
А мост под ногою трещит, как береста,
И роет быками стремнину Невы.
Разорваны в клочья бегущие тучи
О шпиль Петропавловки, руку Петра,
Нева ледяная всё круче и круче
Со дна закипает, и доски, и сучья
В чужих подворотнях крутя до утра.
Мелькают при факелах мутные тени,
У пляшущих барок толпится народ,
Мелькнула рука в закипающей пене,
Скользящие пальцы хватают ступени,
И что-то кричит перекошенный рот.
Как спешил он, как он гнулся, чтобы
Перейти шатающийся мост!
А на взморье остров низколобый
Зарывался в пенистый норд-ост,
И шаги несли скорее к дому…
Крепко любишь в бешеной ночи
Свой чердак, тюфячную солому,
Черствый хлеб и огонек свечи!
3
Нет! Не для армейских анекдотов,
Не для свеч и виста вчетвером
К памяти моей идет Федотов
В архалуке, с длинным чубуком.
Медленный, плешивый и сутулый,
В хоре живописцев и вельмож
Отставной поручик смуглоскулый, —
Разве он к высоким музам вхож?
Пусть о нем по карточным салонам
В круге дамских плеч и знатоков
Уж рокочет низким баритоном
Барски-снисходительный Брюллов.
Пусть стучится слава. Он в халате
Бреет перед зеркалом виски.
У него — досадно и некстати —
Грудь щемит от кашля и тоски.
Раб знамен, султанов, конных множеств,
Он ушел, отравленный уже,
К пыльной Академии Художеств,
К тюфяку на пятом этаже —
Не затем, чтоб там, в кошачьем мраке,
На Васильевском, в сырой дыре,
Дожидаться, как всплывет Исакий
В деревянных ребрах на заре!
Сны его на майский луг похожи,
А глаза всю жизнь обречены
Видеть только бороды да рожи,
Ордена, графины и блины.
Жизнь его — мучительная ссора,
Давняя обида, и к тому ж
Длится вечным «Сватовством майора»
Посреди салопниц и чинуш.
А другой, восторгом пламенея,
Из страны, где самый воздух синь,
Шлет домой «Последний день Помпеи»
И портреты чопорных княгинь.
Нет! Уж как ни притворяйся кротким,
Отыскав последний четвертак,
Сам с утра пошлешь за квартой водки,
Бросишь кисть и рухнешь на тюфяк!
4
Нева! Нева! Вдоль скользкого гранита
Приподнимаясь, падая, звеня,
Хватай, как пес, чугунные копыта
И колотись в туманном свете дня!
Один! Один! Не понятый друзьями,
Отдавший жизнь за пошлый анекдот,
«Плешивый шут», задавленный долгами,
Не краску — желчь из тюбика он жмет.
Куда бежать? Шпицрутены, парады,
Вихры корнетов и чепцы старух
Здесь заслонили лучший сон Эллады
И суетой отяжелили слух.
Разгул реки переграждают шлюзы,
Сердца певцов встречает пистолет,
И лгут академические музы,
А у него и друга даже нет!
Измученная каменной постелью,
В его груди колотится Нева,
И он скользит, закутанный шинелью,
А ветер рвет и комкает слова:
«Неужель, как нищий на соломе,
И моя мечта обречена
Задыхаться в сумасшедшем доме
От бессилья, злобы и вина,
Чтоб потом, мотаясь по сугробам,
Уносила мерзлая доска
Крик ворон над одиноким гробом,
Брань возниц и кашель денщика?
Петербург мой! Город лебединый!
Верю я, когда-нибудь и ты
Возведешь бессмертные Афины
Посреди болот и нищеты,
И осядет песней в человеке
Эта муть неволи и обид,
Как наутро возвращает реки
В берега остуженный гранит!»
5
Морозной пылью в солнечном музее
Янтарная густеет тишина.
Она разбудит даже в ротозее,
Среди дриад, вельмож, пейзажей, флотов,
Суровый век, в котором жил Федотов,
Нахмурившийся в раме у окна.
Широкий ямб торопит нетерпенье,
Эпическую поступь наших лет.
У нас простор для дум и вдохновенья,
Но как забыть, что был и черств и горек
Хлеб прошлого! Кроши его, историк,
И замеси на вымысле, поэт!
Декабрь 1926 — январь 1927