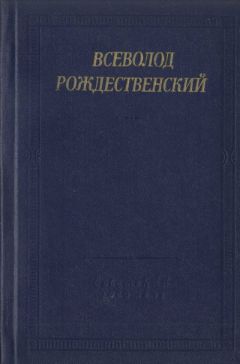84. АРАГВА
Целый день в лесистой щели,
У чинары под крылом,
Точит камешки Арагва
Перекатным кипятком,
И дрожит мой тонкостенный,
Глиной вымазанный дом.
Целый день ты бьешь, Арагва,
В сизых скалах снежный путь,
Точишь узкое ущелье,
Хочешь камни захлестнуть,
Катишь бойко год от году
Льдисто-пенистую круть.
Ты рождалась в пене снежной
У заоблачного льда,
Ты медведицей тяжелой
С кручи прыгала сюда,
Раздирая грудь о щебень,
Не смолкая никогда.
Был и я снегами молод,
Чист, как лед, и скор, как змей,
Разбивал и я о камень
Толщь зеленых хрусталей,
О, кипящая Арагва,—
Образ юности моей!
Будь же верной мне отныне
Сталью светлого клинка,
Донеси кипящим сердце,
Неуемное пока,
До каспийского, сухого,
Нефтеносного песка,
Чтобы там, в степи, теряя
Льдистой молодости пыл,
Размывая плоский берег,
Осаждая тучный ил,
Помнить снежный лоб Казбека
И узор его светил!
1927 Грузия
Воскресенье пахло снегом
И оттаявшею елкой.
Строго встал на косогоре
Желтый Павловский дворец.
Хорошо скрипели лыжи,
Круто падал холм пушистый,
Сразу дрогнувшее сердце
Захлестнуло холодком.
Льдистой пылью режет щеки,
Справа мостик, слева прорубь.
Снежный камень Камерона
Выскользнул из синевы.
Поворот и встречный берег.
Я перевожу дыханье.
«Сольвейг!» Тает это имя
Льдинкою на языке.
«Сольвейг, Сольвейг!» В карий омут
Опрокинуты созвездья.
По сосне скользнула белка,
Где-то ухнул паровоз.
Воскресенье пахло снегом,
Низкой комнатой и печью.
Не оно ль по половицам
В мягких валенках прошло?
Я люблю в углу прихожей
Просыхающие лыжи,
Шорох всыпанного чая,
Пар, летящий в потолок.
Я люблю на спинке кресла
Мягко вскинутые руки,
Уголек в зрачке янтарном,
Отсвет скользкого чулка.
Бьют часы. Синеют стекла.
Кот вытягивает спину.
Из руки скользнула книга,
В печке гаснет уголек.
Наклоняясь низко, Сольвейг
Говорит: «Спокойной ночи!»
На дворе мороз. В окошко
Смотрит русская луна.
1927
Звездою ты входишь в глухое жилье,
Ирина — любимое имя мое!
О, карее солнце под взлетом ресниц!
Так звали монахинь и русских цариц,
Так, верно, когда-нибудь в строгом раю
Окликнут архангелы душу мою.
Я знаю, что в имени светлом твоем
Есть сходство с высоким лиловым цветком,
С богинею радуг и брызг дождевых
И шорохом сада на склонах ночных.
Ирина, Ирина! Сливая струи,
Поют, прерываясь, два медленных «И»,
И входит, рапирой пронзив забытье,
Мне в сердце высокое имя твое!
1927
87. «Какие-то улицы, встречные пары…»
Какие-то улицы, встречные пары,
Фонтанка, нахмуренный мост.
Я слышу, как волны торопят удары,
Как дышит над взморьем норд-ост.
Трамваи проходят. И звону и стуку
Ответствует криком душа.
Рука еще чувствует узкую руку,
Колеса спешат и спешат.
Трамваи проходят. «Прощайте!» Улыбка.
Зеленый вдали огонек.
Опять я один, и, как старая скрипка,
Ложится душа под смычок.
Опять я дышать и тревогой и маем
В ночное иду забытье.
Довольно! Довольно! С последним трамваем
Уехало сердце твое…
1927
На исходе зимних первопутных дней
Поселилась муза в комнате моей.
Разогнув под лампой пропыленный том,
Я ее дыханье слышу за плечом.
И ложатся тихо, как сухой огонь,
Узенькие пальцы на мою ладонь.
Обернусь — всё пусто. Кресло и стена.
Ватой заложила уши тишина.
И идут, как сердце, в черном ремешке
Часовые стрелки на моей руке.
Только заструится песенный ковыль —
Слышу, кто-то ходит, вытирает пыль,
О фарфор колечком звякнув невзначай,
В голубую чашку наливает чай.
Смотрит, как пишу я, и, вздохнув слегка,
Трогает губами уголок виска.
Кто ты, я не знаю, — муза иль жена,
От тебя такая в доме тишина.
Ты всегда со мною — днем или во сне,
Если что забуду, ты подскажешь мне,
Если что замечу иль скажу не так,
Ты от всех незримо подаешь мне знак.
Ничего я в жизни грустью не корю,
Весело и просто с миром говорю.
Потому и стрелка на руке моей
Как клубок мотает пряжу светлых дней.
Потому и путь мой вольной песней лег,
Потому и голос на заре высок.
1927
89. УТРО («В этом городе, иссиня-сером…»)
В этом городе, иссиня-сером,
Сквозь лениво протянутый дым,
Громыхая тяжелым размером,
По мостам, переулкам и скверам,
Островам и проспектам седым,
В свежий день, за мечтой своей следом,
Как вожатый с рукой на руле,
Ты несешься трамвайным разбегом,
Молодое, хрустящее снегом,
По упругой, по звонкой земле!
Здравствуй, утро! Раскрыты ворота,
Заскрипела лебедка в порту,
У казармы равняется рота,
Просыпается в цехе работа,
И пошел самолет в высоту.
Огибая асфальт полукругом,
Искры сея, победно звеня,
Утро, утро, в разбеге упругом
Будь мне братом, товарищем, другом
На пороге работы и дня!
<1928>
«Отчего на склоне
Голубых ночей
Ты поднялся, тополь,
Гордый и ничей?
Отчего, встречая
Солнце и дожди,
Ты качаешь ветер
На своей груди?»
Но, склоняясь тенью
В лунный водоем,
Ставит листья тополь
По ветру ребром.
Голова седая
И девичий стан,
Отвечает тополь
Гостю хвойных стран:
«Здесь простора много,
Здесь лазурь и свет.
Горная дорога —
Жребий твой, поэт.
И сродни нам море,
Черное, как ночь,
Да седая чайка,
Горькой пены дочь!»
<1928>
91. «Дворик наш затянут виноградом…»
Дворик наш затянут виноградом,
Нам свечи не надо зажигать.
Полумесяц, врезанный над садом,
Крест окна ломает о кровать.
Пахнет морем, дынею и тмином.
О, как жадно хочется вздохнуть!
Золотым, упругим мандарином
При луне твоя сверкает грудь.
А волна идет, идет всё шире.
Вот он, грохот рухнувшего дня!
В целом мире, слышишь, в целом мире
Нет ни звезд, ни ветра, ни меня!
Только ты. Но жадно и ревниво,
Покоряясь темной воле дна,
Уж скользит по крутизне отлива
Морю возвращенная волна.
И, на волю медленно всплывая,
Отшумевшей пеною дыша,
На гребне качается такая
Смутная и легкая душа.
Спи же крепко в шуме непогоды!
Ты во сне услышишь, как, гудя,
В дальний рейс уходят пароходы
За косыми струнами дождя.
Дворик наш затянут виноградом,
Ночь струится в пении цикад,
И луна лежит со мною рядом,
И в окне деревья говорят.
<1928>