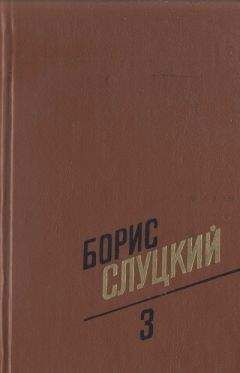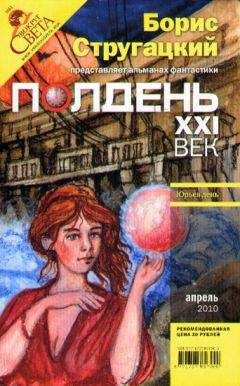ГРЯЗНАЯ ЧАЙКА
Гонимая
передвиженья зудом,
летящая
здесь же, недалеко,
чайка,
испачканная мазутом,
продемонстрировала
брюшко.
Все смешалось: отходы транспорта,
что сияют, блестят на волне,
и белая птица, та, что распята
на летящей голубизне.
Эта белая птица господняя,
пролетевшая легким сном,
человеком и преисподнею
мечена:
черным мазутным пятном.
Ничего от нас не чающая,
но за наши грехи отвечающая,
вот она,
вот она,
вот она,
нашим пятнышком зачернена.
Еще все были живы.
Еще все были молоды.
Еще ниже дома были этого города.
Еще чище вода была этой реки.
Еще на ноги были мы странно легки.
Стук в окно в шесть часов,
в пять часов
и в четыре,
да, в четыре часа.
За окном — голоса.
И проходишь в носках в коммунальной квартире
в город, в мир выходя
и в четыре часа.
Еще водка дешевой была. Но она
не желанной — скорее, противной казалась.
Еще шедшая в мире большая война
за границею шла,
нас еще не касалась.
Еще все были живы:
и те, кого вскоре
ранят; и те, кого вскоре убьют.
По колено тогда представлялось нам горе,
и мещанским тогда нам казался уют.
Светлый город
без старых и без пожилых.
Легкий голод
от пищи малокалорийной.
Как напорист я был!
Как уверен и лих
в ситуации даже насквозь аварийной!
Ямб звучал —
все четыре победных стопы!
Рифмы кошками под колеса бросались.
И поэзии нашей
шальные столпы
восхитительными
похвалами
бросались.
«Солоно приходится и горько…»
Солоно приходится и горько.
Жизнь — как черноморская вода.
Слышу, тонущий товарищ: «Борька!» —
криком мне кричит, как и тогда.
Он захлебывается. Он бы плакать
стал. Но не хватает сил.
Оба не умеем плавать —
я и тот, кто помощи просил.
Как мы далеко тогда заплыли!
До чего там было глубоко!
До чего нам не хватало прыти!
До чего нам было нелегко!
Горького с соленым перепившись,
наглотавшись на всю жизнь,
этот черновик не перепишем:
сколько можешь, на воде держись!
Сколько можешь, слушай крики друга
и плыви на помощь, не зевай
и уже слабеющую руку,
сколько можешь,
подавай!
Совершенно окоченелый
в полушерстяных галифе,
совершенно обледенелый,
сдуру выскочивший
на январь налегке,
неумелый, ополоумелый,
на полуторке, в кузове,
сутки я пролежал,
и покрыл меня иней.
Я сначала дрожал,
а потом — не дрожал:
ломкий, звонкий и синий.
Двадцать было тогда мне,
пускай с небольшим.
И с тех пор тридцать с лишком
привыкаю к невеселым мыслишкам,
что пришли в эти градусы
в сорок,
пускай с небольшим.
Между прочим, все это
случилось на передовой.
До противника — два километра.
Кое-где полтора километра.
Но от резкого и ледовитого ветра,
от неясности, кто ты,
замерзший или живой,
даже та, небывалая в мире война
отступила пред тем,
небывалым на свете морозом.
Ну и времечко было!
Эпоха была!
Времена!
Наконец мы доехали.
Ликом курносым
посветило нам солнышко.
Переваливаясь через борт
и вываливаясь из машины,
я был бортом проезжей машины —
сантиметра на четверть —
едва не растерт.
Ну и времечко было!
Эпоха была!
Времена!
Впрочем, было ли что-нибудь
лучше и выше,
чем то правое дело,
справедливое наше,
чем Великая Отечественная война?
Даже в голову нам бы
прийти не могло
предпочесть или выбрать
иное, другое —
не метели крыло,
что по свету мело,
не мороз,
нас давивший
тяжелой рукою.
Все принцессы спят на горошинах,
на горошинах,
без перин.
Но сдается город Берлин.
Из шинелей, отцами сброшенных
или братьями не доношенных,
но — еще ничего — кителей,
перешитых, перекореженных,
чтобы выглядело веселей,
создаются вон из ряду
выдающиеся наряды,
создается особый шик,
получается важная льгота
для девиц сорок пятого года,
для подросших, уже больших.
— Если пятнышко, я замою.
Длинное — обрезать легко,
лишь бы было тепло зимою,
лишь бы летом было легко…
В этот карточный и лимитный
год
не очень богатых
нас,
перекрашенный цвет защитный,
защити! Еще хоть раз.
Вещи, бывшие в употреблении,
полинявшие от войны,
послужите еще раз стремлению
к красоте.
Вы должны, должны
посуществовать, потрудиться
еще раз, последний раз,
чтоб смогли принарядиться
наши девушки
в первый раз!
«Я был человек его века…»
Я был человек его века.
Я был человек его круга.
Для этого человека
я был наподобие друга.
Я был наподобие брата,
и этому нету возврата.
Я строчкою вписан в книги,
в бумажные врезан скрижали.
С ним происходившие сдвиги
меня непременно сдвигали.
Мы вместе тонули. Вместе
мы выплывали едва.
Я знал, что на должном месте
будет его голова.
А кто и о ком напишет
такой, как этот, стих, —
не думал, пока он дышит,
покуда совсем не стих.
Огромная, как белуга,
поставленная на хвост,
стихи покойного друга
пропела она во весь рост.
Певица. Ее рулада —
дебела, крута, кругла.
Но в то же время крылата
эта певица была.
По-рыбьи глаза смотрели.
Вздымало кофту брюшко.
Потусторонние трели
она выводила легко.
Как жаворонок от зноя,
захлебывалась она,
и вся синева с белизною
была ею превзойдена.
И золото все июля,
и все серебро января
к ней струны свои протянули,
образно говоря.
И ротик она разевала,
коротенький ротик свой,
но из мирового развала
творила лад мировой.
Это я, господи!
Из негритянского гимна
Это я, господи!
Господи — это я!
Слева мои товарищи,
справа мои друзья.
А посередке, господи,
я, самолично — я.
Неужели, господи,
не признаешь меня?
Господи, дама в белом —
это моя жена,
словом своим и делом
лучше меня она.
Если выйдет решение,
что я сошел с пути,
пусть ей будет прощение:
ты ее отпусти!
Что ты значил, господи,
в длинной моей судьбе?
Я тебе не молился —
взмаливался тебе.
Я не бил поклоны,
не обидишься, знал.
Все-таки, безусловно,
изредка вспоминал.
В самый темный угол
меж фетишей и пугал
я тебя поместил.
Господи, ты простил?
Ты прощай мне, господи:
слаб я, глуп, наг.
Ты обещай мне, господи,
не лишать меня благ:
черного теплого хлеба
с желтым маслом на нем
и голубого неба
с солнечным огнем.