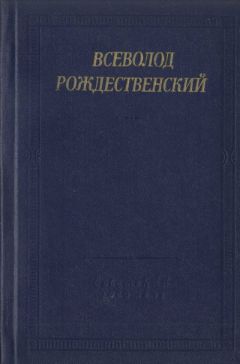170. ЦВЕТОК ТАДЖИКИСТАНА
Две бортами сдвинутых трехтонки,
Плащ-палаток зыбкая волна,
А за ними струнный рокот — тонкий,
Как преддверье сказочного сна.
На снегу весеннем полукругом,
В полушубках, в шапках до бровей,
С автоматом — неразлучным другом —
Сотня ожидающих парней.
Вот выходят Азии слепящей
Гости в тюбетейках и парче,
С тонкой флейтой и домброй звенящей,
С длинною трубою на плече.
И в струистом облаке халата,
Как джейран, уже летит она…
Из шелков руки ее крылатой
Всходит бубен — черная луна.
Пальцами слегка перебирая,
Косы вихрем отпустив вразлет,
Кружится на месте — золотая —
И ладонью в тонкий бубен бьет.
То сверкнет в полете, как стрекозы,
То растет, как стебель, не дыша,
И как будто рассыпает розы
Шелком шелестящая душа.
Кто тебя в трясины и болота
Бросил, неожиданный цветок?
Кто очарованием полета,
Как костер, в снегах тебя зажег?
Многие припомнят на привале
Иль в снегах, ползя в ночной дозор,
Этот угольком в болотной дали
Черный разгорающийся взор.
Даже мне, как вешних гроз похмелье,
В шалаше, на вереске сыром,
Будут сниться косы, ожерелье
И бровей сверкающий излом…
Там, в груди, уже не гаснет рана,
И забыть никак я не могу
Золотой тюльпан Таджикистана,
Выросший на мартовском снегу.
1943
Стоит она здесь, на излуке,
Над рябью забытых озер,
И тянет корявые руки
В колеблемый зноем простор.
В скрипучей старушечьей доле,
Надвинув зеленый платок,
Вздыхает и слушает поле,
Шуршащее рожью у ног.
К ней ластятся травы погоста,
Бегут перепелки в жару,
Ее золотая береста
Дрожит сединой на ветру.
И жадно узлистое тело,
Склонясь к придорожной пыли,
Корнями из кочки замшелой
Пьет терпкую горечь земли,
Скупые болотные слезы
Стекают к ее рубежу,
Чтоб сердце карельской березы
Труднее давалось ножу.
Чтоб было тяжелым и звонким
И, знойную сухость храня,
Зимой разрасталось в избенке
Трескучей травою огня.
Как мастер, в суке долговязом
Я выпилю нужный кусок,
Прикину прищуренным глазом,
Где слой поубористей лег.
В упрямой и точной затее
Мечту прозревая свою,
Я выбрал кусок потруднее,
Строптивый в неравном бою.
И каждый резьбы закоулок
Строгаю и глажу стократ —
Для крепких домашних шкатулок
И хрупкой забавы ребят.
Прости, что кромсаю и рушу,
Что сталью решаю я спор, —
Твою деревянную душу
Я все-таки вылью в узор.
Мне жребий завидный подарен:
Стать светом — потемкам назло,
И как я тебе благодарен,
Что трудно мое ремесло!
<1944>
172. «Сердце, неуемный бубенец…»
Сердце, неуемный бубенец,
Полно заливаться под дугою,
Покорись со мною наконец
Светлому осеннему покою.
В путь с тобой мы вышли налегке
(Я напрасной не искал печали),
И меня в родном березняке
Соловьи да звезды провожали.
Было время музыки и книг,
Встреч, разлук, бессонных разговоров,
А теперь понятней мне язык
Тишины и голубых просторов.
Высоко над пламенем рябин,
На заре, прозрачной и нескорой,
Журавли ведут свой легкий клин
В дальний путь, на теплые озера.
И отныне в слове у меня
Есть какой-то привкус — легкий, дикий —
Кострового дымного огня
И морозом тронутой брусники.
Тем и жизнь была мне хороша,
Что, томясь, как птица, синей далью,
Русская жила во мне душа
Радостью и песенной печалью.
<1926>, 1943–1944
Где били снаряды по соснам и елкам,
Где жаркая схватка велась,
В приладожских топях фашистским осколком
Была перерезана связь.
Трещат пулеметы, работают чисто,
Клубится над дзотами дым,
Но дышит отвагою сердце связиста,
Ползет он по кочкам сырым.
А пули жужжат, как назойливый овод,
И рядом обрушился гром,
Теряя сознанье, разорванный провод
Сплести не успел он узлом.
Снаряды ложатся к его изголовью,
И огненный катится вал.
Откинутый навзничь, забрызганный кровью,
Концы он надежно зажал.
В нем гордо солдатская доблесть горела,
Был смел он в решительный час.
К бойцам чрез его бездыханное тело
Дошел об атаке приказ.
Бегут от штыков голубые мундиры,
Ложатся во рвах без конца.
Налажена связь. И слова командира
Летят через сердце бойца.
1943–1944
Как мало надо нам, как узок мир порою!
Трещат в печи дрова, жестка моя кровать.
Вот я закрыл глаза. За этою чертою
Мне больше, кажется, уж нечего желать.
Усталость до краев мне наливает тело.
Еще томит озноб, — туман лесных дорог, —
Но бережно в ногах шинель меня согрела,
И тихая луна выходит на порог.
Уже глухая ночь, а мне еще не спится.
Вот в голубом луче скользнула чья-то тень.
Неслышно подошла и на постель садится.
Где видел я ее? Она светла, как день.
Тянусь, хочу спросить, но, обессилен сонью,
Невольно падаю в глухое забытье,
Она горячий лоб мне трогает ладонью,
Я слышу над собой дыхание ее.
И тихо ей тогда я думы поверяю,
И жадно слушаю крылатые слова.
Уже бледнеет ночь, луна ложится с краю,
Прохладным забытьем хмелеет голова…
О, будь всегда со мной! И под дождем похода,
И в тусклом огоньке сырого блиндажа,
Ты в грохоте боев и в мирных сменах года —
Как облако, проста и, как рассвет, свежа!
Ведь если есть еще мне близкое на свете,
Что должен я в пути, как старый клад, беречь,
То это голос твой, простые руки эти
И Родины моей взыскательная речь.
1943–1944
175. «Мир мой — широко раскрытая книга…»
Мир мой — широко раскрытая книга,
Пестрая бабочка стран и морей,
Всё, что я видел, узнал и ушами
Взял из эфира, как влагу трава.
В темную глубь уходящий корнями,
Ветви раскинувший в пламени дня,
Неугасимой сжигаемый жаждой,
Пил я и радость и горе земли.
Сколько блуждал я в глухом бездорожье,
Сколько раз падал и снова вставал,
Неутомимо, как древле Иаков,
Сколько с собою боролся в ночи!
Но, раздираемый смутной тревогой,
Выпивший терпкую чашу до дна,
Я никогда повторять не устану
Гордого имени: «Я человек!»
1943–1944
Мороз идет в дубленом полушубке
И валенках, топча скрипучий прах.
От уголька зубами сжатой трубки
Слоистый дым запутался в усах.
Колючий иней стряхивают птицы,
То треснет сук, то мины провизжат.
В тисках надежных держат рукавицы
Весь сизый от мороза автомат.
Рукой от вьюги заслонив подбровье,
Мороз глядит за Волхов, в злой туман,
Где тучи, перепачканные кровью,
Всей грудью придавили вражий стан.
Сквозь лапы елок, сквозь снега густые
Вновь русичи вступают в жаркий бой.
Там Новгород: там с площади Софии
Их колокол сзывает вечевой.
В глухих болотах им везде дороги,
И деды так медведей поднимать
Учили их, чтоб тут же, у берлоги,
Рогатину всадить по рукоять!
Январь 1944
177. ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД