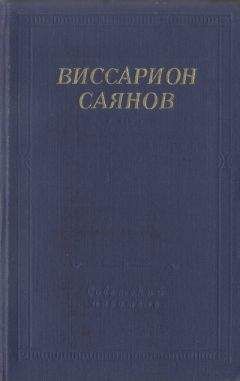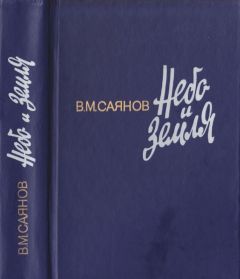167. ЛЕРМОНТОВ В ЧЕРКАССАХ
Что за феатр: об этом стоит рассказать.
Лермонтов
Провинциальный бедный городок,
И в нем — театр. Чадом свечек сальных
И контрабасом громким он привлек
Помещиков времен патриархальных.
На занавесе — горы в серебре,
А разговор идет о снах, о войнах,
О меделянских псах и об игре —
В тонах отменно ясных и пристойных.
А в полутьме пять ветреных Диан
Глядят на вас с улыбкою милейшей, —
Быть может, снова встретится улан
Здесь запросто с тамбовской казначейшей.
Какая скука! Скоро ночь придет…
Неужто снова вздорный сон приснится?
Но контрабас простуженно ведет
Смешной мотив, навеянный «Фрейшицем».
Слегка кривясь, заморенный скрипач
Пилить спешит на допотопной скрипке.
Он грустен, глух и жалостен, хоть плачь,
А всё смотреть не можешь без улыбки.
Оркестр молчит уже. А скрипачу
И невдомек. Он долго продолжал бы,
Но контрабас смычком бьет по плечу,
Кларнет сердито дергает за фалды.
И, разъяренный горем, глухотой,
Скрипач в ответ ударить хочет рьяно,
Но, верно, пьян — и падает, смешной,
Лицом пробивши шкуру барабана.
Вот занавес опущен. И оркестр
На съезжую отправлен. Шумно в зале:
Отцы велеречивые семейств
Другой развязки вечера не ждали.
…А ты глаза слезами затумань,
Чернавка-муза, девушка босая,
Не всё ль равно — в Черкассы иль в Тамань
Бросает царь, изгнанием пытая?
На севере, за много сотен верст,
Грустят места, с младенчества родные,
В безлюдье, в гибель, в горы, в Пятигорск
В июньский день везут перекладные.
«А коль решу — и всё переменю?
Нет, дальше в путь дорогой узкой, тряской…
Затем ли нынче еду я в Чечню,
Чтоб умереть на линии Кавказской?»
Он засыпает. Солнце греет. Вдруг
Во сне виденье. Голос громче, громче…
«Как? Умереть? Увижу ль Петербург?
Ведь „Сказку для детей“ еще не кончил…
Ведь жизнь в начале…»
Он проснулся. День,
Отягощенный злым великолепьем,
Еще пылал.
Ложилась рядом тень
Огромных гор на выжженные степи,
Поемный луг. Шлагбаум. Старый мост.
«Ну что ж, казак, далеко ль до станицы?»
— «Да не скажу… Не знаю этих верст…
Я тоже спал… А что во сне приснится?»
1941
Среди родных героев прозы русской,
Максим Максимыч, памятен ты мне,
И твой сюртук, в плечах немного узкий,
И темный плащ, и шашка на ремне.
И смуглость щек, овеянных загаром.
Всё «да-с» и «нет-с» — твоя простая речь,
Твои рассказы громкие недаром
Сумел я с детства в памяти сберечь.
Я вижу вновь и этот сумрак шаткий,
И склоны гор, раскрашенных пестро,
И темный мех твоей черкесской шапки,
И кабардинской трубки серебро.
С художником великим мы не спорим…
Вся прямотой и ясностью дыша,
Легко владеет радостью и горем
Твоя простая, верная душа.
Прямое и доверчивое сердце
Гордыне чуждо помыслов пустых,
Звезде побед навеки разгореться
Велел народ для воинов таких.
Ведь в светлый час последнего сраженья
Их выбор был решителен и прост…
И в старости без головокруженья
Над крутизною шли на Чертов мост.
1941
В полночь Невский проспект стал безлюден, как снежное поле,
Заметают снега у заставы кирпич баррикад,
И гудит за окном настороженный, близкий до боли,
Как биение сердца, родной навсегда Ленинград.
Здесь прошла моя жизнь. В эти грозные ночи блокады
Он дороже мне стал, изувеченный, в дыме, в огне,
С опаленными порохом липами Летнего сада, —
Разлучения с ним никогда бы не вынести мне.
Не стихает метель, не смолкает теперь канонада,
Сын на фронте, а здесь над станком наклоняется мать.
Пусть сегодня темно на больших площадях Ленинграда —
Он в столетиях будет немеркнущим светом сиять!
Январь 1942
170. МАЙ, НОЧЬ БЛОКАДЫ И БЕСЕДА ОБ А. ИВАНОВЕ
…Чаёк мы ночью попивали,
Потом, художник и поэт,
Мы книги пухлые листали —
Былых годов забытый след.
Был месяц май и ночь блокады,
Редела сумрачная тьма,
И глухо падали снаряды
На отдаленные дома.
О живописцах шла беседа.
Как шла их жизнь, как шла борьба.
Что: поражение, победа —
Посмертной славы их судьба?
И вот, на дно стаканов глянув,
Почуя светлое тепло,
Мы имя вспомнили: Ива́нов —
И тут от сердца отлегло…
Иванов. Утро нашей славы,
Он нами сызмала любим,
Кремлей прославленные главы
И те склонялись перед ним.
Ведь выбрал он в искусстве русском
Путь самобытный, гордый, свой.
Не на проселке был он узком —
Он шел дорогой столбовой.
Нашел он высшую свободу,
Виденьем праздничным согрет,
«Явление Христа народу» —
Великий эпос давних лет.
Его пейзажи, самобытный
Язык портретов, весь порыв
Его души, могучей, слитной,
Горит, столетья озарив.
Вот почему мы в ночь блокады
Так пылко говорим о нем,
Пусть рядом падают снаряды —
Иванов жив, и мы живем.
16 мая 1942
171. «АРТИЛЛЕРИСТЫ-ГВАРДЕЙЦЫ»
В Колпино путь под обстрелом…
Юноша в цехе убит…
С горестью девушка в белом
В мертвые очи глядит.
Небо в сиреневых звездах,
Отблеск зари золотой.
Счастлив: я пил этот воздух,
Горький, как хвои настой.
Всё, что знавал понаслышке,
Я опишу — под огнем.
Только не в маленькой книжке —
В Библии Новых Времен.
1 ноября 1942
172. «В кругу друзей шутили долго, пели…»
В кругу друзей шутили долго, пели…
Вдруг взрыв — предвестьем смертного конца…
В глаза смертей сурово мы глядели,
Не отводили в сторону лица…
Пройдут года — и этот город снежный
Тебе приснится в давней красоте,
И бомбы, что упали на Манежный,
Вдруг загудят в безмерной высоте,
И дом качнется, гулко грянут взрывы,
Проснешься ты… Увидишь — вдалеке
Проходит девушка… И ветка тонкой ивы,
Как символ жизни, в девичьей руке…
27 января 1943
173. «Что мы пережили, расскажет историк…»
Что мы пережили, расскажет историк,
Был сон наш тревожен, и хлеб наш был горек.
Да что там! Сравнения ввек не найти,
Чтоб путь описать, где пришлось нам пройти!
Сидели в траншеях, у скатов горбатых,
Бойцы в маскировочных белых халатах,
Гудели просторы военных дорог,
Дружили со мною сапер и стрелок.
Ведь я — их товарищ, я — их современник.
И зимнею ночью и в вечер весенний
Хожу по дорогам, спаленным войной,
С наганом и книжкой моей записной,
С полоской газеты, и с пропуском верным,
И с песенным словом в пути беспримерном.
Я голос услышал, я вышел до света,
А ночь батарейным огнем разогрета.
Синявино, Путролово, Березанье —
Ведь это не просто селений названья,
Не просто отметки на старой трехверстке —
То опыт походов, суровый и жесткий,
То школа народа, — и счастье мое,
Что вместе с бойцами прошел я ее.
1943