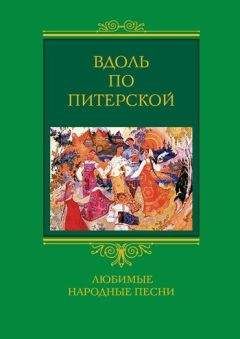Постой, паровоз!
Летит паровоз по долинам, по взгорьям,
Летит он неведомо куда.
Мальчонка назвал себя жуликом и вором,
И жизнь его — вечная игра.
Постой, паровоз, не стучите, колеса,
Кондуктор, нажми на тормоза.
Я к маменьке родной с последним приветом
Хочу показаться на глаза.
Не жди меня, мама, хорошего сына,
Твой сын не такой, как был вчера.
Меня засосала опасная трясина,
И жизнь моя — вечная игра.
А если посадят меня за решетку,
В тюрьме я решетку пробью.
И пусть луна светит своим продажным светом,
А я все равно убегу.
А если заметит тюремная стража,
Тогда я, мальчишечка, пропал.
Тревога и выстрел — и вниз головою
Под стену тюремную упал.
Я буду лежать на тюремной кровати,
Я буду лежать и умирать.
И вы не придете, любезная мамаша,
Меня перед смертью целовать.
Летит паровоз по долинам, по взгорьям,
Летит он неведомо куда.
Я к маменьке родной, больной и голодной,
Спешу показаться на глаза.
Постой, паровоз, не стучите, колеса,
Есть время заглянуть судьбе в глаза.
Еще ведь не поздно сделать остановку.
Кондуктор, нажми на тормоза.[81]
По тундре, по железной дороге
Это было весною, зеленеющим маем,
Когда тундра надела свой зеленый наряд.
Мы бежали с тобою, замочив вертухая,
Чтобы нас не настигнул пистолета заряд.
Мы теперь на свободе, о которой мечтали,
О которой так много в лагерях говорят.
Перед нами раскрыты необъятные дали.
Как теперь тебе спится, пистолета заряд?
Припев:
По тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд «Воркута — Ленинград»,
Мы бежали с тобою, опасаясь погони,
Чтобы нас не настигнул пистолета заряд.
Лебединые стаи нам навстречу летели,
Нам на юг, им на север — всем по домам.
Эта тундра без края, эти редкие ели,
Этот день бесконечный и вдали лагеря.
Встретит мама сыночка, зарыдает родная,
Зарыдает родная — сын вернулся домой:
Это Клим Ворошилов и братишка Буденный
Даровали свободу, и их любит народ.
Дождь нам капал на лица, им — на дула наганов.
Вохра нас окружила. «Руки вверх», — говорят.
Но они просчитались: окруженье пробито.
Кто на смерть смотрит прямо — пули брать не хотят.
Мы бежали, два друга, опасаясь тревоги,
Опасаясь погони и криков солдат.
Мы бежали, как волки, опасаясь погони.
Когда тундра надела свой зеленый наряд.
Ветер хлещет по лицам, свищет в дуле нагана,
Лай овчарок все ближе, автоматы слышны.
Я тебя не увижу, моя родная мама,
Вохра нас окружила. «Руки вверх!» — и концы.
В черном северном небе ворон каркая кружит:
Не бывать нам на воле — жизнь прожита зазря.
Мать-старушка узнает и тихонько заплачет:
У всех дети, как дети, а ее — в лагерях.
Я сижу в уголочке и гляжу в потолочек:
Пред законом виновен, а пред Богом я чист.
Предо мной, как икона, вся запретная зона,
А на вышке с винтовкой озверелый чекист.
Поздно ночью затихнет наш барак после шмона,
Мирно спит подуставший доходяга-марксист.
Предо мной, как икона, запретная зона
И на вышке все тот же ненавистный чекист.
Рано утром проснешься — на поверку построят,
Вызывают: Васильев! И выходишь вперед.
Это Клим Ворошилов и братишка Буденный
Даровали свободу — их так любит народ.
Это было весною, зеленеющим маем,
Когда тундра проснулась, развернулась ковром.
Мы бежали с тобою, замочив вертухая,
Чтобы нас не настигнул пистолета заряд.
На Колыме, где тундра и тайга кругом
На Колыме, где тундра и тайга кругом,
Среди замерзших елей и болот
Тебя я встретил с твоей подругою,
Сидевших у костра вдвоем.
Шел крупный снег и падал на ресницы вам;
Вы северным сияньем увлеклись.
Я подошел к вам и руку подал,
Вы встрепенулись, поднялись.
И я заметил блеск твоих прекрасных глаз,
И руку подал, предложив дружить.
Дала ты слово быть моею,
Навеки верность сохранить.
В любви и ласках время незаметно шло;
Пришла весна, и кончился твой срок.
Я провожал тебя тогда на пристань —
Мелькнул твой беленький платок.
С твоим отъездом началась болезнь моя,
Ночами я не спал и все страдал.
Я проклинаю тот день разлуки,
Когда на пристани стоял.
А годы шли, тоской себя замучил я.
Я встречи ждал с тобой, любовь моя!
По актировке, врачей путевке,
Я покидаю лагеря.
И вот я покидаю свой суровый край,
А поезд все быстрее мчит на юг.
И всю дорогу молю я Бога:
Приди встречать меня, мой друг!
Огни Ростова поезд захватил в пути;
Вагон к перрону тихо подходил.
Тебя больную, совсем седую,
Наш сын к вагону подводил.
Так здравствуй, поседевшая любовь моя!
Пусть кружится и падает снежок.
На берег Дона, на ветку клена,
На твой заплаканный платок.
Этап на север. Срока огромные…
Этап на север. Срока огромные,
Кого ни спросишь — у всех «указ»…
Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,
Взгляни, быть может, в последний раз.
А завтра я покину Пресню,
Уйду этапом на Воркуту,
И под конвоем своей работой тяжкою,
Быть может, смерть свою найду.
Друзья укроют мой труп бушлатиком,
На холм высокий меня снесут,
И похоронят душу мою жиганскую,
А сами тихо запоют:
«Этап на север. Срока огромные,
Кого ни спросишь — у всех „указ“…
Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,
Взгляни, быть может, в последний раз…»
Не знаю я, когда тебе, любимая,
О том напишет товарищ мой,
Не плачь, не плачь, подруга моя милая!
Я не вернусь уже домой.
А ты, сидя у подоконника,
Платком батистовым слезу утрешь.
Не плачь, не плачь, любимая, хорошая,
Ты друга жизни еще найдешь.
А дети малые, судьбой оплаканы,
Той же дорогой пойдут искать меня;
Не страшны им срока огромные,
Не страшны им и лагеря.
Этап на север. Срока огромные,
Кого ни спросишь — у всех «указ»…
Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,
Взгляни, быть может, в последний раз.[82]
С одесского кичмана
Бежали два уркана,
Бежали два уркана да с конвоя.
На Сонькиной малине они остановились,
Они остановились отдохнуть.
Один — герой гражданский,
Махновец партизанский,
Добраться невредимым не успел.
Он весь в бинтах одетый и водкой подогретый.
И песенку такую он запел:
«Товарищ, товарищ, болят-таки мои раны,
Болят-таки мои раны в глубине.
Одна вот заживает,
Вторая нарывает,
А третья — засела в глубине.
Товарищ, товарищ, зарой ты мое тело,
Зарой ты мое тело в земле.
Покрой ты мне могилу,
Улыбку на уста мне,
Улыбку на уста мне сволоки.
Товарищ малохольный, скажи моей ты маме,
Что сын ее погиб на войне —
С винтовкою в руке
И с шашкою — в другой,
И с песней на веселой на губе».
С одесского кичмана
Бежали два уркана,
Бежали два уркана да с конвоя.
На Сонькиной малине они остановились,
Они остановились отдохнуть.
Помню, помню, помню я,
Как меня мать любила.
И не раз, и не два
Она мне так говорила:
«Не ходи на тот конец,
Не водись с ворами!
Рыжих не воруй колец —
Скуют кандалами!
Сбреют длинный волос твой,
Аж до самой шеи!
Поведет тебя конвой
По матушке Рассее!
Будут все тогда смеяться,
Над тобою хохотать,
Сердце — кровью обливаться,
И на нарах будешь спать!
Выдадут тебе халат,
Сумку с сухарями,
И зальешься ты тогда
Горючими слезами».
Я не крал, не воровал,
Я любил свободу!
Слишком много правды знал —
И сказал народу:
«Не забуду мать родную
И отца-духарика.
Целый день по нем тоскую,
Не дождусь сухарика».
А дождешься передачки —
За три дня ее сжуешь,
Слюну проглотив, заплачешь
И по новой запоешь:
«Помню, помню, помню я,
Как меня мать любила.
И не раз, и не два
Она мне так говорила:
„Не ходи на тот конец,
Не водись с ворами!
Рыжих не воруй колец —
Скуют кандалами!“»
Не забуду мать родную
И Серегу-пахана!
Целый день по нем тоскую —
Предо мной стоит стена!
Эту стенку мне не скушать,
Сквозь нее не убежать.
Надо было мать мне слушать
И с ворами не гулять!
Помню, помню, помню я,
Как меня мать любила.
И не раз, и не два
Она мне так говорила…[83]