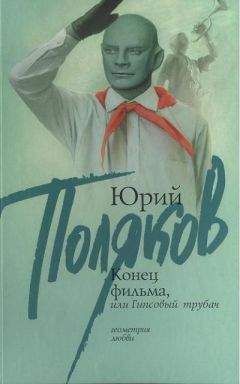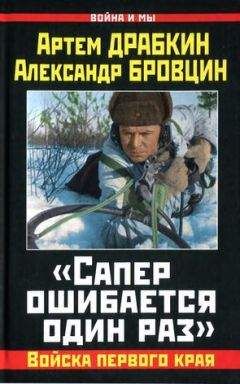Намедни муза изменила мне
Намедни муза изменила мне,
В багрянце пятен крикнув: «Зауряден!»
И пусто на земле, как на луне,
И, как в похмелье, сам себе отвратен.
Ах, боже мой, какая стынь вокруг,
В глазах не тает снежная пороша,
И друг — не друг, и валится из рук,
Став непомерной, будничная ноша.
И не спасут ни лесть тебя, ни месть, —
Надейся, жди, не колотись об стену…
Измену женщин можно перенесть.
Как пережить поэзии измену?..
Забрось перо, забей ворота…
Забрось перо, забей ворота,
Забудь приятелей своих,
Когда не клеится работа
И есть слова́ — и нету их.
Иди — и встань у перекрестка,
У троп, что тянутся к жилью,
И встретишь женщину-подростка,
Ее — поэзию свою.
Под суматошный окрик чаек
И поселковых псов содом —
Ее, как вдовушку, качает,
Что на заре плетется в дом.
Идет улыбчиво и зыбко,
То замирая, то спеша,
И ей воочью снится зыбка
И крик начальный малыша.
Мне снилось, будто я, старик глубокий,
Сижу один у берега речного,
И выросла внезапно предо мною
Та женщина, которую когда-то
Я в целом мире полюбил одну.
Она была такой же молодою.
Как в первый день далекого знакомства, —
Все тот же взгляд, насмешливый немного,
Все те же косы солнечного цвета
И полукружье белое зубов.
В тот давний год, в то первое свиданье
Я растерялся и не знал, что́ делать?
Как совладеть на миг с косноязычьем?
Ведь должен был я многое поведать.
Обязан был т р и с л о в а ей сказать.
Она ушла мгновенно и беззвучно,
Как утром исчезают сновиденья.
Мне показалось, — женщина вздохнула:
«Прощай, пожалуй. Мальчики иные
Так быстро забывают о любви».
Еще она промолвила, как будто,
Что время — лучший лекарь во вселенной,
И, может быть, я пощажу бумагу,
И сил впустую убивать не стану,
Чтоб ей писать годами пустяки.
…Прошли года. И вот, старик глубокий,
Сижу один у берега речного.
И возникают вдруг передо мною
Туманное предчувствие улыбки,
Слепящее сияние очей.
Мне легкий шорох оглушает уши.
Я резко оборачиваюсь. Рядом
Мелькают косы солнечного цвета,
И грудь волной вздымается от бега.
Ничто не изменилось в ней. Ничто!
Я тяжко встал. И прозябал в молчанье,
Старик, влюбленный глупо и наивно.
Что́ должен я сказать, ей? Или надо,
Секунд не тратя, протянуть бумагу,
Всю вкривь и вкось исчерканную мной?
Там — бури века и мое былое,
Там строки, пропитавшиеся дымом
Костров и домен, пушек и бомбежек,
Там смерть идет, выглядывая жертву,
Там гордо носит голову любовь.
Еще там есть песчаная пустыня,
В зеленой пене топи Заполярья, —
И мы бредем, за кочки запинаясь,
О женщинах вздыхаем потихоньку,
О тех, что есть, о тех, которых нет.
Так что́ скажу теперь? О постоянстве?
О том, что я по-прежнему ей верен?
Зачем сорить словами? Я же знаю:
Есть у любви отзывчивость и зренье,
У равнодушья — ни ушей, ни глаз.
Я подошел. Ее дыханье —
Струя у сокола в крыле.
И говорили мы стихами,
Как все, кто любит на земле.
Потом глядели и молчали,
И созревал под сердцем стих.
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Нет, будут беды и печали,
Но это — беды на двоих!
Тишина… Тишина… Тишина…
Ничего, кроме вздоха глухого.
Только выжатое до дна
Безъязыкое, пресное слово.
Только рифмы, как рифы торчат,
Только колются мысли колами,
Только сеет и сеет свеча
Начиненное копотью пламя.
И ни света уже, ни надежд…
Но внезапно, во тьме перегноя,
Прорастет из подземных одежд,
Точно зернышко, чувство живое.
Возмужает, покатится вдаль,
Молодыми ветрами гонимо.
И себя уже больше не жаль,
И обходит тоска тебя мимо.
И почуешь, склонившись к столу,
И всевышним себя, и ягою,
И крушит твое зернышко мглу,
Обрастая листвою тугою.
Вновь ты весел и жизнью обвит,
И стальное перо не обуза,
И — сродни неуемной Любви —
Над тобою беснуется Муза.
Жизнь пережить — не поле перейти
Жизнь пережить — не поле перейти,
И всякое случается в дороге:
Бывает, стерегут тебя в пути
Обиды, суесловье и тревоги.
Толчется за плечами шепоток,
И в кулачок хихикают соседки.
Но вновь мелькает ситцевый платок
Хмелинками вишневыми на ветке.
К своей любви идешь ты не спеша.
Ну, пусть себе немного посудачат,
Для тех, кому поет своя душа,
Все это, право, ничего не значит.
Да будет долг исполнен до конца,
Хотя тропа все круче и все уже,
И на пути — усердье подлеца
И чинное молчание чинуши.
Смешон и жалок их заспинный суд,
Их тусклый взгляд и холоден, и узок.
Живи для всех, как для тебя живут
Все истые строители Союза.
И коли бой за истину — держись,
Пускай она в пути тебе маячит.
Не бойся тлена, если любишь жизнь,
Пощады не проси при неудаче.
Ты в свет влюблен? Тогда и сам свети.
Не веришь в бога? Будь заместо бога.
Жизнь пережить — не поле перейти,
И впереди — дорога и дорога…
В двери прошлого я стучусь
В двери прошлого я стучусь,
У тебя я прошу несмело:
Сказки детства пропой мне, Русь,
Те, что бабушка прежде пела.
Иногда, хоть заплачь, хочу
Я вернуться назад, к исходу —
Грызть зеленую алычу,
В ледяную кидаться воду,
В «красных — белых» играть всерьез.
(Обязательно в красном стане)
И стоять, коли плен, без слез
Под насмешками и хлыстами.
На лужок у плакучих ив
Вместе с улицей выйти строем
И, рукавчики засучив,
Душу тешить кулачным боем.
Сутки заполночь. Я не сплю.
Сказки бабушка вяжет рядом.
И старушку я так люблю,
Что иной мне любви не надо.
Бабка! Бабушка! Друг большой,
Ты любила меня, нахала.
Пахла кедром и черемшой,
Всей тайгою благоухала.
Знала многое — и сказать
Ты об этом умела прямо,
Моей мамы и друг, и мать,
Моего становленья мама.
И гордился я, и форсил,
Доходило когда до слуха:
«У Бузанской поди спроси,
Очень умственная старуха.
По земле побродила, чать,
И видала, считай, немало…»
Нет, не помню я, чтоб скучать
В детстве бабушка мне давала.
И с тех пор, с тех ребячьих дней,
Забываемых понемногу,
Лишь подумаю я о ней —
И потянет меня в дорогу.
В двери прошлого я стучусь.
У тебя я прошу несмело:
Сказки детства пропой мне, Русь,
Те, что бабушка прежде пела.
Дед мой Павел был сын солдатки,
Посошок при себе всегда,
Были дедовы все достатки —
Бас да черная борода.
Был он телом могуч, не сгорблен,
Был улыбчив и темнолиц,
И таскал он в холщовой торбе
Хлеб для мамы моей и птиц.
Говорил он, что правду любят,
Как церковный звон сатана.
Был он, дед мой, чудак и люмпен,
И вожак ташкентского дна.
Обожал он костры в дороге,
Родничок, обжигавший горсть.
На щербатом своем пороге
Был он только нежданный гость.
А еще он любил и нежил,
И не бросил бы, хоть убей.
Голубых своих, красных, бежевых
Доморощенных голубей.
Был к богатым он без пощады.
Хоть в ночи при огне свечи
В голубятне его дощатой
Пели царские трубачи.
По утрам он гонял их бурно,
И в тиши, на краю зари
Для него кувыркался турман,
С неба падали почтари.
Знаменитые были птицы,
Лишь мальчишки вздыхали: «Ах!..»
Дед рассказывал небылицы
Даже в рифму о голубях.
Вышла жизнь его иль не вышла,
Я не знаю. Он был изгой.
Губернаторских дрожек дышла
Он железной хватал рукой.
Был он черен, чернее горна,
И без страха умел блажить.
Говорил он: «Прошу покорно,
Прикажите, чтоб можно жить.
Все нас судят: и боги судят,
И начальство, до писарят.
Господин губернатор, люди,
Даже бедные, жить хотят!..»
Генерал усмехался вяло,
Тыкал кучера в бок: «Гони!»
И толпа головой качала:
— Павла, господи, охрани…
Был он, дед, непохож на прочих,
Шел навстречу своей беде.
И нашли его как-то ночью
Бездыханного на Урде.
Хоронили его, жалея.
Неудобные, как суки́,
Молчаливые иудеи,
Синеглазые русаки.
И узбеки молились богу,
Чтобы милостив был и мил,
Чтобы Павла простил немного,
В рай по-божески допустил.
Был он добрый для них, приятный
И готовый всегда помочь.
…И голодные в голубятне
Птицы плакали в эту ночь.
Дай нам бог компании без фальши