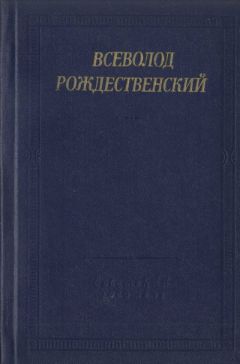537. ПИСЬМО НАЗЫМУ ХИКМЕТУ
Пять веков черногорцы и турки клинки своих сабель скрещали.
громоздили паши глыбы башен из наших голов,
с черепами турецкими в Цетине колья стояли,
и, где кровь пролилась, нет поныне ни трав, ни цветов.
До сих пор еще гневом костры в моем крае дымятся,
в битве на Косовом поле не сломлен наш дух боевой,
но звезда Октября и дороги изгнания — братство
принесли нам с тобою и общей сдружили судьбой.
Помню Мамулу, Лопарь, жестокую сеньскую бурю,
стражу смерти я видел на волчьих холодных горах.
И в осином гнезде, там, в застенках на острове Гргуре,
был твой стих для меня песней сердца и саблей в руках.
Этот факел я поднял средь мрака и бурь завыванья.
Ветвь племен непокорных, родной Черногории сын,
верен пламени сердца и предков своих завещанью,
я двадцатому веку скажу: «Этот турок — мой друг, мой Назым!»
Я на Ловчен высокий хотел бы подняться с тобою,
ввысь, где вечность парит в окруженье полета орлов,
чтоб ты Негоша племя увидел, готовое к бою,
племя камнем рожденных юнаков, поэтов, бойцов.
В тяжкий час испытаний я сердцем твой голос услышал.
Мы все казни, все пытки, весь ужас, всё горе прошли.
В это трудное время сказал ты нам: «Головы выше!»
И стихов коммунистов враги расстрелять не смогли.
Предки гибли мои от турецких кривых ятаганов,
и родные дома пустовали под небом сырым.
Одинокая мать всё тоскует в дождях и туманах.
Я пишу ей: «Теперь не один я, со мною Назым!»
Жаждой мучили нас, убивали в застенках камнями,
кости, ребра ломали, но нас вдохновляла всегда
песнь твоя в эти дни испытаний и черной печали,
непреклонными мы проносили ее сквозь года.
Стройный тополь поет в твоем сердце, а там, на Босфоре,
ждут тебя твои зори над теплой, лазурной волной.
Я прошел весь Дунай, все теснины мучений и горя,
но родимого явора ветка всё время стоит предо мной.
В одиночке своей всей земли перечислил ты раны.
В смертный час наш звезда нам сияла в сгустившейся мгле,
сквозь решетки мы видели дерева цвет долгожданный,
зелень свежих ветвей и средь них человека в петле.
След тюремных оков и поныне хранят мои кости.
Помню сыщиков тени, что всюду, как змеи, ползли.
Сколько наших голов на запятнанном кровью подносе,
в тьме полночной таясь, кровопийцы на пир понесли!
И когда тигры злобы в пожарах земли стервенели,
когда в ямах тюремных мы гибли, тонули в крови,
а заря и сады этой пролитой кровью алели,—
в твоей песне свой дом обрела вся планета любви.
За тюремной стеной своим сердцем, звездою высокой,
счастья вольный корабль защищал ты и разума свет,
чтоб они не погибли от войн, бушевавших жестоко, —
ведь за века судьбу в наши дни отвечает поэт!
Птицы медлят в полете, как тучки на ясной лазури.
Утихают вулканы в плену расстояний и дней.
Но сломить не сумеют порывы неправедной бури
вознесенный твой тополь и явор надежды моей.
В море века нам виден в грядущее парус летящий,
и желанной зари всей душою касаемся мы.
Турну-Северин — берег свободы манящий —
звал от Бурсы, от Главнячи, мрачной белградской тюрьмы.
Я в Констанце стою, где на площади грустный Овидий,
гроздья боли своей я готов обнажить перед ним.
Спали голода цепи, Москву я мечтаю увидеть.
Там, под небом московским, я встречусь с тобою, Назым!
Сталинграду, Байкалу, Неве и широкому Дону
я хочу отнести моей родины жаркий привет.
Я судьбою изгнания тоже подобен Назону
и на руку твою опираюсь по-братски, Хикмет.
Ты грустишь по Стамбулу, а я всё по Зете, по Ибру,—
дух поэзии вольной не служит тиранам земным,
тень Овидия вечно стремится к родимому Тибру,
где стоит отблеск зорь, в куполах отражающий Рим.
<1966>
Фонтан — это взятый в плен источник
из каменных расщелин, из пещеры,
из озера лесного, заключенный
в железных трубах городских бассейнов.
Там где-то травы тщетно просят влаги,
а здесь фонтаны рушатся в бетон
и разбивают грудь свою на брызги,
томясь извечно жаждою свободы.
Они шуршат, они печально стонут,
и радуга в их струях преломилась,
подобная изогнутому луку.
Фонтаны — это пленные ручьи,
они тоскуют по росистым веткам,
по небу в грозовых летящих тучах,
по зорям, отраженным в их воде,
и по оленю на скалистых кручах.
Они поили и кусты, и травы,
и путников, жарою истомленных,
они в своем потоке увлекали
осеннюю листву и отводили
от леса руку ночи ледяной.
Теперь, стесненные трубою ржавой,
они рокочут гневно в пыльных скверах
и горестно дробят себя в неволе
на брызги безысходной горькой доли.
И го́рода усталые глаза,
его вспотевшее в жару лицо
кропят прохладной пылью на мгновенье,
ломаясь о бетонную ограду.
Они всегда в плену, и только ночью,
когда их закрывают на покой
садовники иль сторожа бассейнов,
им слышно, как поют в горах их братья.
Но в час дневной, любимцы горных круч,
они сквозь горло и сквозь зубы труб
со свистом прорываются и рушат
свой тяжкий столб о грани стертых плит.
Кто видел за решеткой зоосада
тоску тигриных глаз в тревоге неустанной,
тот знает неизбывную печаль
и этих пленных городских фонтанов.
На раскаленный падая асфальт,
они, ветвясь, прохладу распыляют,
и брызги их подобны тем слезам,
что горе всем несчастным посылает.
Асфальт молчит, — он мертв, он безответен.
Но кто не понял бы оцепененья
воды остановившейся, пленённой
и запертой в своей бетонной чаше?
Так замерзает молодость воды,
затиснутая в узость ржавых труб.
Фонтан тоскует о полете в небо,
но к высоте протянутую руку
всегда ломает кто-то, и она
бессильно падает, дробясь о камень.
Он помнит горы — все в изломах молний,
а здесь, над городом, заря томится
и жаждет влаги, а сухие травы
о свежести тоскуют дождевой.
Струя уже разломана, когда
со свистом прорывается сквозь зубы
и пасть окаменевшей львиной маски.
Фонтаны жаждут вольного паденья
с отвесных скал, у своего истока.
<1967>
Над слезами, над грозами детства,
каменным домиком,
горной тропинкой
шелестит и ветвями тянется
дуб с потрескавшейся корою;
долго рос он,
чтоб закрыть вершиною небо
и утеса кремнистый гребень,
откуда с расщелин высоких
брошена вниз дорога,
как веревка,
держащая якорь спасенья.
Ее окаймляют обрывы,
а сучковатый терновник
глядится в отвесную пропасть;
кустики горькой полыни
в трещинах тесных
полны одинокой печали…
Над домом и песнею детства
старый дуб зеленеет.
Диким утесам
весна дарит птиц щебетанье,
лето — жарой опаляет
и в трещинах змей разводит;
росой, как слезами
и вздохом печали,
сыплет золото осень
на отвесную эту дорогу.
Ветер над гребнем утеса
лохматое облако треплет,
утес от меня скрывая
дождя и тумана завесой.
Росли возле дуба
я и тоненький стебель.
Орел наблюдал за нами
со скал, где его крепость,
где ранней весною
в сухих камнях
траву молодую встретишь,
пчел и свежие листья.
Я вижу минувшие годы,
дорогой идущие в гору,
там всё обещает счастье
на каменных копьях вершины,
где разбиваются тучи
о трон золотого солнца.
В грозу на его ступенях
ломались тяжкие тучи,
как челюсти волчьи,
и дорога та называлась
улица Златна.
Была эта улица первой,
которую я увидел,
и долгое время думал,
что улицы все на свете —
это крутые дороги,
какими и люди, и зори
спускаются с круч отвесных.
Заря над горой гасит звезды,
и я никогда не забуду,
как в дождик
и вечером темным
искал я улицу эту
и видел только,
как об ее уступы
гасят грозы
небесные свечи.
На этой отвесной дороге
золота не искал я,
но я следы там видел
гайдуцких отрядов.
И на рассвете часто
находил оловянные пули,
расплющенные о камень,
да гильз пустые глазницы,
затянутые паутиной.
Выщербленные камни
ни улиц не знали, ни злата.
Так при чем здесь названье «Златна»?
Никто не мог мне ответить,
ни когда вынимали занозы
терновника из моей пятки,
ни когда бинтовали туго
об эти острые камни
ободранные колени.
Только мне рассказывали старцы,
что в былые времена
сквозь эти горы
шли царицы
и меж расщелин ка́мней
обронили золотые кольца…
Горные зори мне говорили:
«Мы много раз лучами
золотили эти утесы.
Но годы омыли их кровью,
и они почернели от зноя
и грусти дождей осенних».
Зори родные,
я не могу поверить,
что взбирались царицы
по этим скалам,
где даже горным волчицам
нетрудно было б разбиться…
Города я прошел и страны,
ходил по улицам гладким,
и они мне кололи ноги
невидимым терном.
Прекраснее сновидений
те были края с золотыми
куполами, где пели птицы…
Но я нигде не видел
улицу Златну.
Почему же в горах суровых
каменная тропинка
носила такое имя?
И ответила мне чужбина:
«На этой дороге
тебя согревало
сияние глаз материнских,
и там ты первое слово
сказал людям и солнцу».
Тропа каменистая, крутая,
где я в метель и во мраке ночи
узнавал камень каждый
и где всегда встречал я
друга иль брата,
где в норе пещерной
не был вовек одиноким…
Быть может, иные дали
красивый мне край откроют,
и горы там будут круче,
но золотой дороги не будет,
как дорога моего детства,
которая вела к высотам,—
она — начало пути и песни,
она — моя Родина!
<1969>
ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ