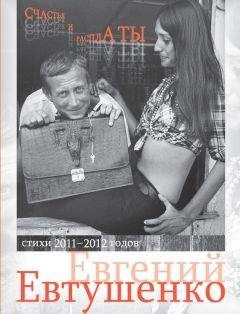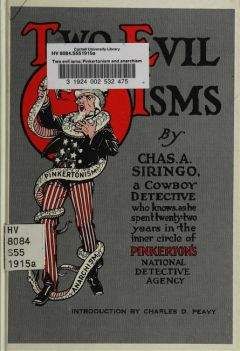С двенадцати лет он, выросший в трудовой еврейской семье, работал на гребеночной фабричке в Екатеринославе и, как многие провинциально романтические подростки за чертой оседлости, мечтал о революции, которая отменит это унижение. Но вряд ли он мог догадываться, что, утвердившись, революционная идеология, как беспощадный железный гребень, начнет выдирать романтизм из слишком горячих голов и многие изначальные идеалисты либо пойдут под расстрел, либо сопьются, либо превратятся в трусов и циников. А некоторые – и в палачей, как судья Горба, которого Голодный описал так страшноватенько, что ода революционной справедливости читается сегодня как приговор жестокости:
«Сорок бочек арестантов! Виноват!.. Если я не ошибаюсь, Вы – мой брат. Ну-ка, ближе, подсудимый. Тише, стоп! Узнаю у вас, братуха, Батин лоб… <…> Воля партии – закон. А я – солдат. В штаб к Духонину! Прямей Держитесь, брат!»
Чем не французский Термидор по-екатеринославски, но с такой уютной домашней кашей, ожидающей судью из нежных рук жены после одного расстрела за другим! Правда, не слишком верится в демонизм обвиняемой гражданки Ларионовой, которая и крысятину варила в борще, и хлеб подавала со стеклом.
Мне кажется, что и у Голодного, и у других рабоче-крестьянских поэтов поздние обличения нагнетались из инстинкта самосохранения, из опасения, как бы самих авторов не обвинили в контрреволюционной мягкотелости. И они громоздили примеры чей-то вражескости все азартнее, а получалось все абсурднее, как порой в признательных показаниях несчастных арестованных на допросах.
Сын репрессированного драматурга Владимира Киршона, Юрий, запоздало учившийся вместе с Беллой Ахмадулиной, рассказывал мне, как следователь побоями заставил его, шестнадцатилетнего, «признаться», будто он хотел бросить бомбу на автомобиль вождя из окна своей квартиры. Затем самого следователя посадили, а Киршона снова избили, потребовав переменить показания, ибо окна его квартиры выходили не на улицу, а во двор.
Друзья по Екатеринославу, Михаил Эпштейн и Михаил Шейнкман, вошли в литературу под псевдонимами. Один с оглядкой на прошлое (и на Демьяна Бедного, конечно) назвался Голодным, другой, мечтая о светлом будущем, стал Светловым. Оба крепко связали себя с комсомолом. Но и винтовкой новой власти послужили.
Голодный добровольно вступил в ЧОН (партийно-военные части особого назначения, известные жестокостями с колеблющимся крестьянством), состоял в комиссии губкома РКСМУ по переселению «буржуазных элементов» из принадлежавших им домов и квартир. Здесь даже заикаться о справедливости не полагалось, ибо это было бы расценено как пособничество классовым врагам. Гуманные колебания приравнивались к предательству. Спрос был не на идеалистов, а на исполнителей. Голодному и Светлову кое-как удалось выскользнуть из рук, втягивавших их в красное колесо, но время от времени им напоминали о прежних «шатаниях» и опять пытались привлечь к сотрудничеству.
Несмотря на пересечения их судеб в коридорах власти, пахнущих порохом расстрелов, не только по талантливости, но и по литературной образованности они были несравнимы. Светлову несколько больше повезло в его полуголодном детстве. Он вспоминал: «Моя культурная жизнь началась с того дня, когда мой отец приволок в дом огромный мешок с разрозненными томами сочинений наших классиков». Голодному и такого подарка в детстве не досталось. Вот что рассказывал о нем Семен Липкин:
«Перед войной к нам присоединили Бессарабию. Образовалась Молдавская ССР. Как полагалось, освобожденный молдавский народ написал Сталину письмо в стихах. Мне предложили сделать перевод. Я сказал, что связан с Востоком, молдавской поэтики не знаю. Но заказчики упорствовали, и, наконец, мы договорились, что я буду редактором перевода. Со мной согласились. Я предложил в качестве переводчиков Голодного, Светлова и Уткина. Заказчики и с этим согласились.
И вот, как и двум другим, я звоню Голодному и сообщаю ему, какую часть письма я отобрал для него – и добавил:
– Размер, как в «Гайавате», четырехстопный хорей, рифма перекрестная, сплошь женская.
Долгое молчание. А телефон – в коридоре коммунальной квартиры, задерживаться нельзя. Наконец, голос Голодного:
– Дай пример.
Даю пример: «Прибежали в избу дети. Второпях зовут папашу, Тятя, тятя, наши сети Притащили простоквашу».
Голодный – с облегчением:
– Так бы и сказал, а то строишь из себя интеллигента».
Поначалу стихотворные восторги Голодного были даже искренними, хотя и пародийно вдохновенными: «В переулках заводских окраин Я брошюру Октября нашел, С этих дней горю я, не сгорая, Как и ты, горящий комсомол!» (1922). Но дальнейшие покаянные стихи о своих «отклонениях от генеральной линии» написаны уже со сломленной понуростью – лишь бы отстали: «Стал я за морем славить синицу И соседние ветви ломать, Стал я с чертополохом родниться И на левую ногу хромать. Комсомольцы сказали: ошибка, До конца он быть нашим не мог. Большевик пригрозил мне с улыбкой: «Ты подумай еще, паренек» (1932).
Главным преступлением идеологии, исключавшей совесть, было вовлечение многих простодушных людей в заговор против них самих. Но тогда все было до того запутано в людях, что иногда обманыватели и сами были обмануты собой. Лучше всего об этом сказал Борис Пастернак: «Что ж, мученики до́гмата, Вы тоже жертвы века».
Есть у Светлова весьма прозрачное аллегорическое стихотворение, которое каким-то чудом прошло цензуру сначала в 1930 году, а затем и в послевоенном, 1948-м:
И жара над землей полыхает,
И земля, как белье, высыхает,
И уже по дороге пылят
Три приятеля – трое цыплят:
«Мы покинули в детстве когда-то
Нашу родину – наш инкубатор,
Через мир,
Через пыль,
Через гром —
Неизвестно, куда мы идем!»
…Ваша жизнь молодая потухнет
В адском пламени фабрики-кухни,
Ваш извилистый путь устремлен
Непосредственно в суп и в бульон!
И с цыплятами, и с теми, кто за ними стоит, все уже ясно, но поэт последним штрихом переводит бытовую зарисовку в библейский контекст:
Над совхозом июльский закат,
И земля в полусонном бреду…
Три приятеля – трое цыплят,
Три вечерние жертвы бредут…
Кто же были эти трое? По-видимому, речь о екатеринославской комсомольской троице: самом Светлове, Голодном и их близком товарище Александре Яновском, писавшем под псевдонимом А. Ясный (1903–1945). В ранних двадцатых он был способен на такие задорные строки: «Поведи удалой головушкой, Подыши на чужие края. Эх ты, Русь, стальная зазнобушка, Советская краля моя». Но уже к середине тех же двадцатых Ясный признавался, что временами рука нащупывает револьверный курок. Такое случалось, возможно, и с Михаилом Голодным, который в тридцать первом году написал о случайно уцелевшем полковом жеребце красной кавалерии: «Врангеля гонял он в Крым, К морю припирал барона…» И вот через десятилетие новая встреча с ним: «Что же вижу? В Понырях Конь мой Ходит водовозом! На худых, кривых ногах Не стоит перед начхозом. <…> / Пуля не брала его, Шашка не брала его, Время село на него – Не осталось ничего. / Я подумал: «Что ж ты брат…» – И пустил в него заряд!»
Какая трагическая перекличка комсомольского поэта с белоказаком Николаем Туроверовым, тоже пристрелившим своего коня. Вряд ли они знали стихи друг друга.
Восходящая звезда нового поколения советских поэтов, талантливейший, но во многом загубленный Ярослав Смеляков в тех же тридцатых весьма иронично посмеивался над Голодным:
Не был я ведущий или модный,
без меня дискуссия идет.
Михаил Семенович Голодный
против сложной рифмы восстает.
Слава Богу, Ярослав не слышал, как один молодой поэт сказал мне о нем самом гораздо хуже: «Как ты можешь дружить с этим старым маразматиком!» Мы не имеем права быть высокомерно жестокими к поэтам, пережившим страшное время, которое все-таки минуло нас, и судить их только с сегодняшней точки зрения. Нужно справедливо анализировать их, но обязательно спасать от забвения все лучшее, что они написали.
На мое счастье, я случайно нашел в 1941 году крошечную книжку Михаила Голодного, кажется, в синем ледериновом переплете и сразу и навсегда влюбился в гениальное, на мой взгляд, стихотворение «Верка Вольная».
Верка Вольная —
коммунальная женка, —
Так звал меня
командир полка.
Я в ответ
хохотала звонко,
Упираясь руками в бока.
Я недаром
на Украине
В семье кузнеца
родилась.
Кто полюбит меня —
не кинет,
Я бросала —
и много раз!
Гоцай, мама,
да бер-би-цюци!
Жизнь прошла
на всех парусах.
Было детство,
и я была куцей,
С красным бантиком в волосах…
Гоцай, мама,
да веселее!
Горечь детства
мне не забыть.
Никому
любви не жалея,
Рано я научилась любить.
Год Семнадцатый
грянул железом
По сердцам,
по головам.
Мне Октябрь
волос подрезал,
Папироску поднес к губам.
Куртка желтая
бараньей кожи,
Парабеллум
за кушаком.
В подворотню бросался прохожий,
Увидав меня за углом.
И смешно было,
и неловко,
И до жара в спине горячо —
Неожиданно вскинув винтовку,
Перекинуть ее за плечо.
Гоцай, мама,
орел или решка!
Умирать, побеждать – все к чертям!
Вся страна —
как в стогу головешка,
Жизнь пошла
по железным путям.
Ой, Синельниково,
Лозовая,
Ларионово,
Павлоград!
Поезда летели.
Кривая
Выносила их наугад!
Гоцай, мама,
да бер-би-цюци!
Жизнь включалась
на полный ход.
Барабаны двух революций
Перепутали
нечет и чет.
Брань.
Проклятья.
Проклятья
и слезы.
На вокзалах
толпа матерей.
Их сшибали с пути
паровозы,
Поднимал
поцелуй дочерей.
«Верочка моя…
Вера…»
Лозовая.
Павлоград.
Подхватили меня кавалеры
Из отчаянных наших ребят.
………………………………………………
Я любила,
не уставая,
Все неистовей
день ото дня.
Член компартии из Уругвая
Плакал:
«Вэрко, люби меня…»
Я запомнила его улыбку,
Лягушачьи объятья во сне.
Неуютный,
болезненный,
хлипкий,
Днем и ночью,
он липнул ко мне.
Я хотела на нем задержаться,
Я могла бы себя укротить,
Но не мог он —
подумаешь, цаца! —
Мне любви моей прошлой простить.
Шел, как баба,
он к автомобилю,
По рукам было видно —
не наш.
Через год мы его пристрелили
За предательство и шпионаж.
Гоцай, мама,
да бер-би-цюци!
Жизнь катилась,
как Днепр-река.
Я узнала товарища Луца,
Ваську Луца,
большевика.
Васька Луц!
Где о нем не слыхали?
Был он ясен и чист
как стекло.
Мои губы
его отыскали,
Мое сердце
на нем отошло.
……………………………………
Гоцай, мама,
его подкосили!
Под Орлом его пуля взяла.
Встань из гроба,
Луц Василий,
Твоя Верка
до ручки дошла.
……………………………………………..
Гоцай, мама,
да бер-би-цюци!
Я сама себе
прокурор.
Без шумихи,
без резолюций
Подпишу себе приговор.
Будь же твердой,
Верка, в расплате.
Он прощал, —
ты не можешь простить.
Ты свободу искала
в кровати,
Ты одно понимала —
любить.
Кто же ты?
Вспомни путь твой сначала.
С кем ты шла?
Чем ты лучше любой?
Ты не шла —
тебя время бросало,
Темный сброд ты вела за собой.
Ты кидалась вслепую упрямо,
Ты свой долг
забывала легко.
Прямо в грязь
опрокинуто знамя,
В подреберье
засело древко.
Посмотри:
ни орел и ни решка.
От стыда
ты свернулась ежом,
Рот усталый
искривлен усмешкой,
Сердце – точно петух под ножом.
Без почета,
без салютов
Схороните Верку,
друзья.
Родилась в девятьсотом
(как будто),
В двадцать пятом расходуюсь я.
Месяц июль.
День Конституции.
Облака бегут не спеша.
Гоцай, мама,
да бер-би-цюци!
Верка платит по счету.
Ша!..
1929–1933
Хотите верьте – хотите нет