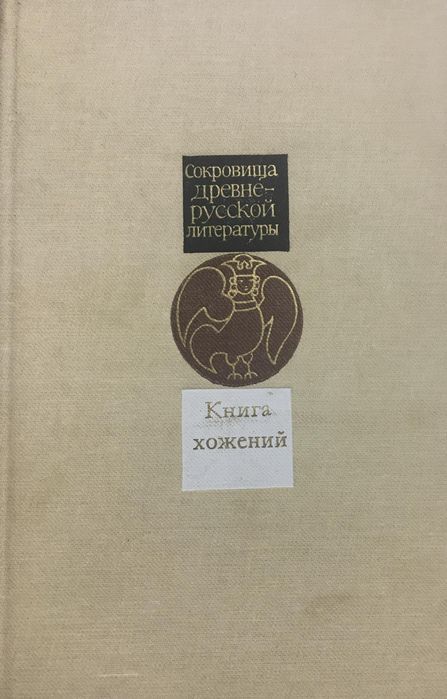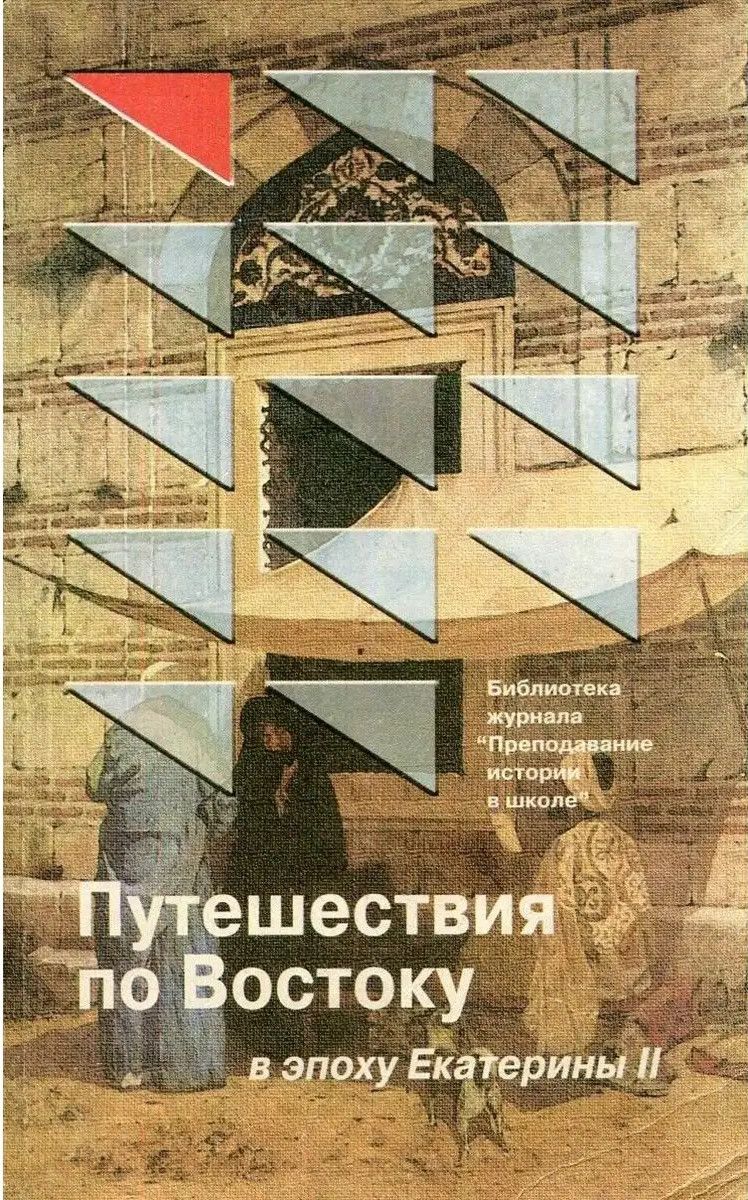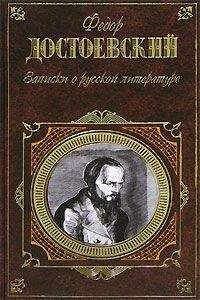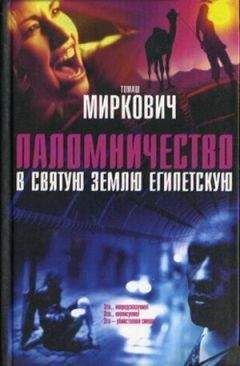Иерусалиму, над ним уже исполненный кубок гнева. Но Иосафат, но Иезекия, но Иосия сокрушают идолов, посыпают пеплом себя и народ, и отсрочена месть. Манассия дополняет последнюю каплю гнева, и весь кубок излился! — Сион и Мория пусты. Обрелся завоеватель дикой Иудеи; она же, проникнув недра Навуходоносорова царства, на него обратила горнее мщенье. Киром сокрушены железные вереи Вавилона; но сей новый владыка Востока от чрева матери был уже назван Исаиею и, как бурный конь, узнающий голос всадника, смиряется пред глаголом пророчеств. Сион цветет верою во дни его преемников. Грозным потоком стремится Александр на мир ему обреченный, но он не страшен Св. граду; Даниил уже предвидел его течение и победитель Персии у ног первосвященника. Антиох борется со святынею, — он попран. Помпей водружает орлы римские на стенах града; но храм Иеговы стоит ожиданием последней, искупительной жертвы.
Совершились семьдесят недель Данииловых, и она является миру. Обуявшие первосвященники приносят ее по всем обрядам книги Левита и неведомо узаконяют. Они избирают ее чистою, без всякого пророка, венчают тернием вместо цветов, обременяют всеми клятвами и за вратами города закалают за грехи целого народа. В последний раз принята их жертва Иеговою. Отселе храм обращается в призрак, из призрака в прах, и как прах рассеивается все племя Иудейское. Тит и Адриян мстители за кровь праведного. На пустоте Сиона стоит его судьба и железным перстом пишет на пепле царства конец пророчеств Моисея: — ту клятву грядущего расточения, которою он связал первые камни своего здания.
Все ветхое миновалось. Мгла неизвестности над Иерусалимом. Две религии вместе истлевают на развалинах храма Иеговы и капищей римских, и новая вера быстро подымается посреди общего разрушения. По манию Елены, новый ликующий Сион радостно возвышает чело, гимнами оглашается пустыня, вся Палестина как один храм, воздвигнутый православию; но она перестала быть обетованною, уже вся земля наследие Бога. Протекли первые шесть веков христианства, ереси и распри раздирают церковь, и как тяжкий искус, как мстительный вихрь, подымается из песков Аравии новый, враждебный закон, сокрушая Восток именем Магомета; Иерусалим становится его святынею. Тогда житейские бедствия пробуждают христиан к подвигам духовным, меч агарянский зовет их на бой. Две веры во всем пылу своем хотят измерить силы свои в кровавой борьбе. Одна, действуя в полноте своего духа, скликает к битве Восток; другая, отклонясь от мирной цели, обращает крест свой в крестообразный меч и движет весь Запад. Иерусалим избран поприщем для их поединка и по тщетным порывам падают поборники Христа. — Другой, более светлый Иерусалим им назначен; судьбы же земного они не в силах изменить. Чуждый, одинокий свидетель рождения и падения царств, он стоит притчею народов, на распутий их вер, славным протекшим облекая настоящий позор свой, и во свидетельство векам грядущим та же железная судьба пишет на челе его конец пророчеств Христовых: «Иерусалим будет попираем языками, до времен скончания языков!»
Наступил день отъезда и с сжатым сердцем пошел я рано утром в Гефсиманию слушать литургию над гробом Богоматери, где я так радостно молился в день Благовещения; но хотя я сбирался в отечество, невозвратная потеря святилищ палестинских раздирала мне душу. В последний раз перешел я обратно поток, у горы Масличной, в последний раз прошел крестною стезею по Иерусалиму. Покамест все укладывали в моей келии, я ходил прощаться с духовенством; Наместник благословил меня в путь и, надев мне на шею малый крест, на серебряной цепи, с частицею животворящего древа, сказал: «Отныне будьте рыцарем Св. гроба».
Я просил отворить храм Воскресения. И там ожидали меня прощание с игуменом и братиею, товарищами моего заключения; но самое горькое было с великим Гробом. Я целовал его на вечную разлуку, как давнего друга, которого обнять из столь далеких краев устремился. Но я однажды достиг его и отселе уже другая цель звала меня — отчизна! На Голгофе, приникнув челом и устами к месту водружения креста, молился я о моем счастливом возвращении и еще раз слышал Евангелие креста над престолом страсти. Трудно было расстаться с сими залогами нашего спасения, по чувству земной к ним любви и по слабости человеческой, которая невольно предпочитает для молитвы поприще священных событий, как бы ожидая на оном особенного внимания неба, за одно лишь усердие потрудившейся плоти. Слабость простительная, если вспомнить, каким сладостным утешением вознаграждает одна мысль сия за все бедствия долгого пути.
Уже все было готово; вьючные лошаки и конь мой ожидали меня во вратах Яффы, вместе со стражем арабским, которого дал мне Мусселим до Наблуса с письмом к градоначальнику. Некоторые из монахов греческих и все поклонники русские обоего пола провожали меня за городские ворота, где со многими слезами и целованиями мы расстались. Я возвращался на родину, они — в Иерусалим; но у них и у меня разрывалось сердце, как будто бы каждый из нас следовал не своей избранной цели и готов был взаимно поменяться ею. В таком странном борении чувств, совершенно противоположных, вспомнил я, какая горькая участь ожидала сих поклонников, под игом арабским, посреди нищеты и гонений, и подивился силе их духа и смирению, с каким они обрекли себя служению святыни, заживо погребаясь в чужбине, хотя много близкого их сердцу оставалось на родине, ибо каждый, наделив меня письмами, просил сказать своим, что он еще жив и за них молится. Глубоко тронутый спешил я исторгнуться от их прощаний, и грустно поехал к северу вдоль стены Иерусалимской. Но едва удалился на несколько шагов от последней городской бойницы, — меня встретили молебным пением все священники арабские Иерусалима и на распутий благословили гимном. Поблагодарив их за усердие, спустился я по каменистой горе в малую лощину к северу от Иерусалима и стал подыматься на высокую гору по дороге к Дамаску.
Был вечер; солнце, близкое к закату, косвенными лучами в последний раз озарило предо мною Св. град, бросая тень его куполов и мечетей на соседние уступы террас. Башни его исполинскими призраками ложились на землю, лицом к востоку, как бы для вечерней молитвы. Ярко сияли на Элеоне мечеть Вознесения и Вечери тайной на Сионе, и Соломонова храма на Мории. Глубокая долина Иосафата уже оделась мраком, скрывая тайны своих мертвых, но светел был на горах путь к Вифлеему. Взъехав на вершину горы, я остановился, чтобы еще раз поклониться Иерусалиму и насытить душу его священною картиною. Долго и грустно смотрел я на два светлых купола гроба Господня, и не мог оторвать от них влажных взоров.