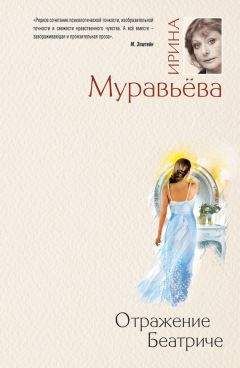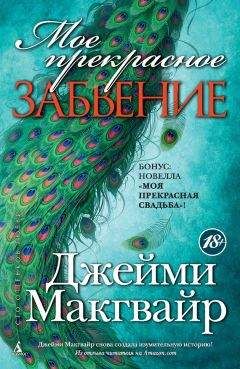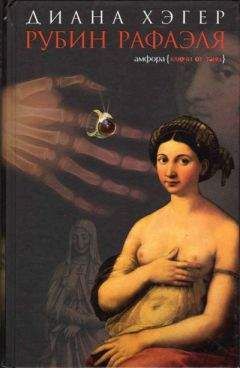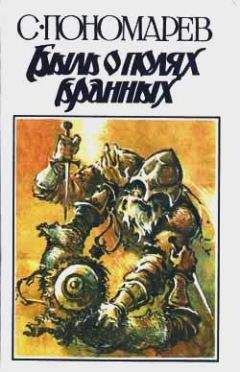– Я не могу, я уже условился с герцогом… Разве вы не помните?
– Я извиню тебя перед герцогом…
– Нет, уж, увольте, я из уважения к моему ремеслу не могу отказаться…
– Я устрою так, что он сам уволит тебя…
– О! тогда другое дело.
– Тогда завтра ночью, ты заберись как-знаешь в лавку столяра; собери в кучу все вещи и все дерево, какое там найдешь: подожги все это, запри лавку снаружи и уходи. За это доброе дело ты получишь сто дукатов. Служи мне верно, и я скоро обогащу тебя. И вправду, как мне лучше употребить свои деньги? Ты сам с этим согласишься. Уходи через сад, да смотри, чтобы тебя никто не видал.
Олимпий повиновался.
* * *
Оставшись наедине, Франческо Ченчи начал потирать руки от удовольствия и произносить отрывистые фразы.
– Вот праздник сегодня. Это называется жить! Затеяно отцеубийство; подготовлено похищение и пожар, и злодеям сделана измена… Покуда я живу на этом свете, дьявол может отправиться на отдых… Я противоположность Тита[6]: тот вздыхал, когда проходил день и он не сделал ни одного доброго дела; а я выхожу из себя, если не сделал десятка два злых дел. Тит – шарлатан человечества! иезуит язычества! Это подтвердят Иудея и пожары, потушенные потоками человеческой крови; а толпы распятых, для которых не доставало крестов, а одиннадцать тысяч невольников умерших с голоду, а тысячи людей брошенных на растерзание диким зверям за то, что мужественно защищали родину? Ничтожный человек, не умевший ни любить, ни ненавидеть: ты плакал, дозволив убийство полутора миллиона людей, и плача допустил вырвать из твоих объятий прекрасную Беренику. Домициан, брат твой, был вылит не из такого металла: у него было железное сердце, чело из бронзы: это был величавый образ короля. Молния не разбивает подобных полубогов; коснувшись до них, она их только освещает. К чему и жизнь, если потомство не будет дрожать при вашем имени, и трепетать, чтоб ни слова не поднялись из наших гробов? Я поклоняюсь силе. Всё ложь, кроме силы: она раскаленным железом кладет свое клеймо на чело поколений…
Глава V. Еще о Франческо Ченчи
Я еще не довольно сказал о Франческо Ченчи. Ум его представляется таким странным, сложным и даже уродливым из всего, до сих пор виденного, и из того, что увидят далее, что на этом действующем лице необходимо еще остановиться.
Не знаю, так ли теперь, но было время, когда в Риме свирепствовали страсти, вырывая человека из его обычной беспечной жизни. Все вышло в то время из границ, и происходили вещи более бесчеловечные, чем великие. Кто был доблестнее Цезаря? кто добродетельнее Катона? кто мог назваться таким же политиком, как Август, или сравняться в притворстве с Тиверием, в жестокости с Нероном, в бестолковости с Клавдием? В ком наконец можно найти более великодушия, как в Антонинах? Женщины также доходят до высшей степени разврата и целомудрия, коварства и верности. Самые здания, вместо того, чтобы поддаться времени, по-видимому властвуют над ним: они стоят незыблемо, и целые века, с их непогодами, и целые поколения людей, все разрушивших, не могли разрушить их. По Европе, Азии и Африке рассеяны остатки этого могущественного народа, подобно костям покойников, для которых целый свет был кладбищем. Римский орел, в беспредельном своем победном полете, рассеял перья своих крыльев по всей Вселенной. Рим с высоты Капитолия раскинул железную сеть на человечество; позже он пытался раскинуть другую сеть – сеть веры и угроз, – думая покорить снова людей. Только под тенью Колизея и могла родиться у пап мысль сделаться царями души. Когда они согласились переселиться в Авиньон, они на самом деле сделались рабами рабов. Пощечина, данная Бонифацию VIII[7], нанесла папству оскорбление, от которого ему трудно было бы подняться; но процесс, затеянный от имена Бонифация недостойным Климентом V, нанес уже незалечимую рану папскому влиянию…
Рим воинственный кидался на врага, как лев, терзая или милуя его. Рим духовный, как хищный зверь, следит издали за врагами, и только в самый день битвы протягивает руку за добычей. Рим пал, сперва как борющийся гладиатор, потом, как раздавленное пресмыкающееся; но в обоих случаях он показал поразительную живучесть духа; поэтому-то ему не суждено погибнуть, но переродиться. Гладиатор пал, обливая кровью землю, но поднялся снова и продолжал бороться до тех пор, пока из раны его не начали сочиться последние капли крови, – редкие и тяжелые капля, как первые капли дождя в грозу. Змея же, с рассеченным позвоночным столбом, продолжает двигаться: ей нужно жить во что бы то ни стало, хотя бы даже жизнь проявлялась в последних предсмертных судорогах. Римский факел, зажженный два раза рукою судьбы, покуда у него хватило смолы, не переставал кидать искры, способные испепелить или осветить целое поколение.
Франческо Ченчи был чем-то в роде испорченного дыхания древнего римского гения; дыхание, вышедшее из раскрывшейся гробницы, но тем не менее дыхание латинское: натура необузданная, язвительный ум, беспощаднейшая душа с ненасытной жаждой к жестокости и ко всему необыкновенному, сверхъестественному. Если б он жил во времена Брута, то не только осудил бы на смерть своих детей, но, простирая свою запальчивость до нарушения законов природы, сам отрубил бы им головы. Он сначала отличался любовью к наукам, но впоследствии смеялся над ученьем, называя его суетой и игрой воображения, или пользовался знанием, как сибариты розою, употребляя ее орудием смерти. У него были большие богатства, и он расточил их, не будучи в состоянии дойти до разорения. Одаренный чрезвычайной силой чувства, мысли и действия, он мог избрать одну из двух дорог: дорогу добра или зла. В те времена круг добра был ограничен: семейные привязанности, помогать бедным подаянием, которое увековечивает нищету; жизнь мирная; смерть темная; память длящаяся, как эхо голоса. Век, в котором он жил, не давал простора для его деятельности: это было время агонии для итальянского духа; наше небо одевалось в свинцовую шапку дантовых лицемеров, которая позволяла людям двигаться вперед едва ли на один вершок во сто лет. Не смотря на это, он ознаменовал начало своей жизни большими подвигами, но люди и обстоятельства сумели отучить его от добра, – оно ему скоро опротивело, потом он стал презирать его и наконец возненавидел. Он обратился к злу, и сказал ему, как демон: «будь моим добром!» Ему понравилась роль Титана и казалось смелостью поднять к небу возмутившееся чело и вызвать его на бой. Все его желания обратились к злу, в нем искал он средства прославиться и любил его с опьянением страсти и с упорством расчета: превзойти в злодействе всё, что существовало до него, казалось ему таким же подвигом, как перенести на другое место Геркулесовы столбы или открыть Новый Свет. Он принял узы брака для того только, чтоб иметь наслаждение расторгать их; он искал самых нежных привязанностей для того, чтоб разбивать их или язвительными насмешками, или кинжалом; в Бога он не верил, но чувствовал его присутствие, как гвоздь в сердце, и кощунствовал над ним, подобно тому, как медведь грызет копье, ранившее его, думая тем облегчить рану; словом, это было соединение Аякса и Нерона с обыкновенным разбойником. Он жил для пытки себе и другим: ненавидел и был ненавидим; питался злодеяниями, и злодеяние убило его.