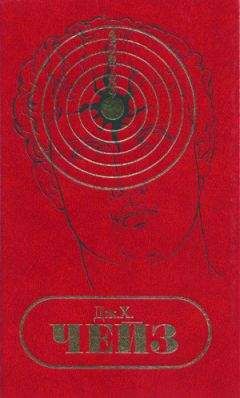ответ. «Иногда случаются стихи, а иногда – упражнения. Не все упражнения становятся стихами, но без упражнений не рождается стихов». Удивительно многослойный ответ о таланте и трудоспособности. И ни слова о том, писать или не писать. Он тактично оставил окончательное решение за Красновым.
Отец самого Саши был весьма эксцентричным, сложным в быту и общении человеком. Добившись своего нынешнего положения изнурительным трудом, считал никчёмным всё, что не приносит дохода. Деньги не пахнут и надо с усердием ежечасно их добывать, а не витать где-то в эмпиреях. Этим словом он окрестил всё, что хоть как-то относилось к духовной области.
Краснов-старший вырастал в большого промышленника и не имел свободного времени на семью, но регулярно откупался от родных крупными, буквально царскими, подачками. При этом о его кутежах с артистками и хористками ходили легенды. Общество с удовольствием смаковало подробности, а доброхоты быстро старались донести это до семьи. Мать не пыталась образумить мужа, чем-то похожего на уральского медведя. Она замкнулась в себе, растворилась в тишине и целиком ушла в религию. Тёмный платочек, глаза в пол, постоянное шептание молитв. Дома она постоянно стояла у икон или пропадала в храме, спрятавшись от всего мира в молитвенном коконе. Так что Александр с раннего возраста столкнулся с жизнью один на один. Он жил бы так и дальше, если бы не встреча с Фирсановыми. Леонид и Александр Леонидович стали ему ближе всех на свете. В моменты радости и неприятности он, в первую очередь, вспоминал о них, а потом уже о семье.
После отъезда Лёни Саша воочию увидел, что такое состояние неизбывной тоски. Александр Леонидович превратился в матрёшку: скрылся в своей тоске, а сверху накинул привычный для всех образ. Он выступал в суде, пел, шутил, был крайне галантен с дамами. Но где-то на самом донышке глаз была вечная тревога за сына, постоянная боль за него. Иногда казалось, что у него изменился даже их разрез. Они теперь «скатывались» от переносицы к вискам, придавая лицу грустное выражение Пьеро. Особенно это проявлялось, когда Фирсанов-старший шутил. Краснову постоянно бросалось в глаза несоответствие между выражением лица и смыслом слов и фраз. Он пытался развеять тоску Фирсанова-старшего своим присутствием, стараясь расшевелить, растормошить его.
Как же он корил себя за длинный язык! Проклинал за то, что сказал и помог Леониду получить место в газете дяди. Он совершенно не просчитал далеко идущих последствий, но и как это было можно?! Возникла проблема у хорошего приятеля, решение было найдено по-мальчишески быстро, но… Но совершенно не обдуманно. С каким бы удовольствием он взглянул в лицо той самой девушке, из-за которой заварилась каша. И, наплевав на приличие и неписанные кодексы поведения, бросил бы ей несколько холодных фраз. Прямых. Резких. Монолога в таких случаях не надо. Жаль, что ему даже не известно имя этой вертихвостки, её не найти. Сейчас это уже никому не нужно, да никто и не уполномочивал его на это. Мысленно он встречал её в городе, эффектно бросал холодные слова и так же эффектно уходил.
В первых письмах Леонида прорывалась боль и маята, но потом эти ноты исчезли. Сначала письма приходили регулярно, статьями дядя был очень доволен и постоянно благодарил племянника за удачное приобретение для своего издания.
Шло время, буры сопротивлялись, но по доходившим сведениям из других источников – всё хуже, всё слабее. Письма стали приходить реже, в статьях появилась горечь, жёсткая ирония. В конце концов, последнее письмо больше походило на телеграмму, в которой сообщалось о переезде на новое место. А будет ли там возможность вести интенсивную переписку, он не понимал. Потом в редакцию доставили пакет, в котором помимо короткой статьи было сообщение в несколько строк. В нём говорилось, что в военных действиях начался партизанский этап и корреспондент «Невского экспресса» Фирсанов Л.А. лишён возможности регулярно присылать свои фронтовые заметки. Если редакция сочтёт возможным не продлевать контракт, то противиться он не станет. Дядя, к его чести, ничего менять не стал.
Эту новость Краснов скрыл от Фирсанова-старшего. Но как-то, в очередной раз придя в гости, уловил неприятный запах валерианы. Александр Леонидович очень бледный сидел на кожаном диване в своём кабинете, с распущенным галстуком. Чего раньше в чужом присутствии себе не позволял.
– Холодная липкая жаба села на сердце. Мы с доктором вроде бы её согнали, – вяло пошутил отец Леонида. Сердце не выдерживало двойную нагрузку тоски.
В этот день Фирсанов-старший ужинал в ресторане с подполковником Максимовым, которого буквально вытащил из заключения. И тот, скорей всего в знак признательности и благодарности, рассказал ему о храбрости сына. Так участие Леонида в военных действиях перестало быть тайной. Рассказ оставил у Фирсанова-старшего двойственное ощущение: с одной стороны, гордость за сына, который не прятался за спинами, не осрамил фамилии, а с другой – сильнейшую тревогу – он влез-таки в самую гущу войны.
Переписка с английским посольством на какое-то время вернула Александру Леонидовичу былую энергию. Но письмо английского капитана сильно ударило по Фирсанову-старшему. Он как-то резко внешне сдал: сединой покрылась вся голова, из походки исчезла лёгкость, потребовались очки и теперь он вынужден был читать свои защиты по бумаге. От былого артистизма не осталось и следа. Но все в округе относились к этому с сочувствием и пониманием. Клиентура поредела, но пока не сильно.
Несчастье случилось на слушании очередного дела в суде. Оттуда прислали посыльного в контору, где Александра Леонидовича дожидался Краснов.
Когда Александр в расстёгнутом пальто и без шапки примчался к зданию суда, всё было кончено. Краснова больше всего изумило лицо Фирсанова-старшего – спокойное. Человека сморил сон на кожаном диване в комнате совещаний. Только он не дышал во сне. Ушла глубокая морщина между бровей, которая придавала лицу Александра Леонидовича не свойственный ему насупленный вид.
Такого количества людей, шедших за гробом, Александр не видел даже на пасхальном крестном ходу возле кафедрального собора. Пришли все те, кого когда-то защищал или кому-то помог Александр Леонидович Фирсанов. Оказалось, что для многих он это делал бесплатно. Море из человеческих голов было до самого горизонта. И цветы, цветы, цветы… И искренние слёзы.
Теперь он стоял, смотрел на расплывающиеся пятна гиацинтов и, не стесняясь, плакал. Он снова был один.
– Ты что, совсем оглох, Лёня? – спросил у облаков и неба Александр.
Декабрь 1908 года. Где-то в Африке
Сразу понять, что это иностранец, было сложно. Акцент почти отсутствовал. Чалма и одежда были обычными, но из хороших тканей. Выдавали только глаза, похожие на два