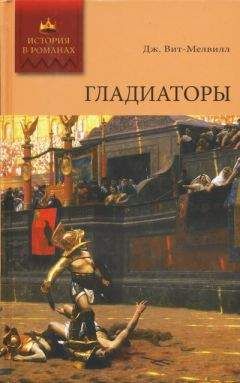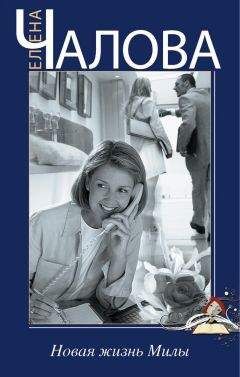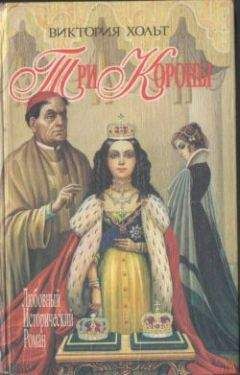Подобные опасения были, конечно, не из тех, которые могли бы сделать ее путь веселым, и потому Мариамна с большим облегчением и с чувством глубокой сердечной благодарности заметила по лучу света, проникавшему через густой мрак, что она наконец достигла другого края прохода.
Несколько искусственно разбросанных охапок хвороста скрывали выход. Хворост был недавно раздвинут Калхасом, приходившим в римский лагерь, и Мариамна могла смотреть сквозь него, не будучи замеченной, всецело погрузившись в размышления о том, что делать далее.
Тем не менее, девушка несколько обеспокоилась, увидев, что римский часовой находится в двадцати шагах от нее. Она могла слышать звук его лат всякий раз, как он двигался, и различать даже белые перья орла над гребнем его каски.
Невозможно было выйти из прохода, не пройдя подле часового, и как ни незначителен был отведенный ему для караула участок, он, казалось, хотел насколько возможно воспользоваться им, прогуливаясь с одного края его до другого. При ярком свете луны не было никакой надежды проскользнуть незамеченной, и Мариамна напрасно искала какое-либо облачко на усеянном звездами небе. Часовой, по-видимому, не хотел даже отвернуть головы от города, куда был устремлен его взор, и, словно заколдованная, девушка следила за ним, думая, на что решиться.
Но даже в минуты такого замешательства она не могла не заметить грациозного телосложения и изящных очертаний воина, когда он, утомленный, оперся на копье. В его оружии и одежде можно было заметить больше пышности, чем допускало обычное вооружение простого солдата, и его плащ из дорогой ярко-красной материи был украшен каймой и прикреплен на плечи золотой застежкой. Машинально, сама того не желая, Мариамна не упустила из внимания и того, что время от времени он подносил руку к глазам, как бы утирая невольные слезы. Скоро, призвав к себе все присутствие духа, она стала внимательно присматриваться. Ей показалось, что часовой с какой-то достойной сострадания страстностью протянул руку к Иерусалиму, потом печально склонил свою покрытую каской голову на обе руки и оперся на копье.
Теперь впервые ей представился удобный случай, и она воспользовалась им. Но первое же ее движение привлекло внимание часового, и она поняла, что тот увидел ее, так как тотчас же раздался его окрик «Кто здесь?» Даже теперь Мариамна не могла не заметить, что голос его не был груб и поднятое копье в его руке дрожало, как тростинка.
Она решила, что всего благоразумнее для нее избегать обмана. И, подойдя прямо к часовому, она попросила у него пропуска и умоляла тотчас же провести ее через лагерь к палатке главнокомандующего. По-видимому, часовой не знал, что делать, и вовсе не обнаруживал той быстрой военной решимости, которой так славилась римская армия.
Помолчав, он дал ответ, и его мягкий и мелодичный, даже в этот момент смущения, голос, раздавшийся в ушах Мариамны, без всякого сомнения, принадлежал женщине — женщине, которая по какому-то ревнивому инстинкту признала ее, прежде чем она начала говорить.
— Ты та девушка, которую я видела в амфитеатре, — сказала она, положив свою белую, сильно дрожавшую руку на руку еврейки. — Ты смотрела на него в тот день, когда он лежал распростертым на песке, под сетью. Да, я тебя узнала. Я видела, как ты побледнела, когда рука трибуна поднялась для удара. Ты его тогда любила. Ты его любишь и теперь. Не отказывайся из боязни, как бы я не пронзила тебя этим копьем или не привела тебя к посту, выдав за шпиона, захваченного на месте преступления. Ты тоже бледна и несчастна, — прибавила она, вдруг меняя тон. — Зачем ты здесь? Зачем ты оставила его одного за стенами? О, я не покинула бы тебя в опасности, Эска… потерянный мой Эска!
Мариамна задрожала, услышав имя своего возлюбленного, произносимое так страстно устами другой. Как настоящая женщина, она с самого начала подозревала, что любимый ею человек завоевал любовь какой-то знатной римлянки. Ее подозрения подтвердились признаниями самого Эски, которые он сопровождал ненужными заверениями в своей верности и преданности. Но, однако, даже теперь, в минуту величайшей опасности, ее огорчило то, что старая рана снова открылась от той руки, которая и нанесла ее, и в своем беспокойстве и изумлении она сохранила горькое, тяжелое сознание необычайной красоты этой бесстыдной женщины, неизвестно для чего одевшейся в одежду римского воина.
Но юная еврейка была крепка, как сталь. Подобно той матери из ее народа, которая добровольно отказалась от всяких прав на свою плоть и кровь, лишь бы не дать разрубить сына надвое, по повелению мудрейшего из царей, и она спасла бы своего возлюбленного бретонца ценой какой бы то ни было жертвы, даже ценой своей постоянной и беспредельной любви. Она бросилась на колени перед часовым и обеими руками схватилась за его ярко-красный плащ.
— Я не буду спрашивать тебя, кто или что ты такое, — сказала она. — Я в твоих руках и в твоей власти и счастлива, что это так. Но ведь ты мне поможешь, не правда ли? Ты употребишь всю свою красоту и все влияние, чтобы спасти того, кого… кого мы обе любим?
С каким-то колебанием произнесла она последнюю фразу. Теперь она как будто добровольно отрекалась от него и признавала, что делится им с другой. Но речь шла о жизни Эски, и разве можно было думать в эти минуты о том, что ее сердце обливалось кровью и в душе клокотала недобрая ревность.
Собеседница пренебрежительно посмотрела на коленопреклоненную девушку.
— Ты, кажется, также много выстрадала? — сказала она. — Значит, правда все то, что я слышала о разорении и бедствиях, царящих в городе? Но не хвастайся своими скорбями: не думай, что ты одна заслуживаешь жалости. Есть измученные умы и истомленные сердца и среди осаждающих, как и среди осажденных. Скажи мне правду: что сталось с Эской? Ты его знаешь? Ведь и теперь ты идешь от него? Где он? Здоров ли?
— Он связан во внешнем дворе храма, — воскликнула Мариамна, — и осужден на смерть завтра с восходом солнца!
Теперь его участь казалось ей еще более ужасной и неизбежной, когда она вынуждена была выразить это словами.
Стоявшая на карауле римлянка сделалась смертельно бледной. Она сняла каску с золоченым нашлемником, чтобы освежить голову, и ее прекрасные темные кудри рассыпались по белой, как слоновая кость, шее, нежным плечам и белой груди, трепетно вздымавшейся под броней. Мариамна должна была признать, что эта женщина, которой она так боялась и к которой, однако, чувствовала полнейшее доверие, была столько же прекрасна даже в этой мужской одежде, сколько, по-видимому, была дерзка и развращенна.
Необузданна и отчаянна была шайка гладиаторов, приведенных Гиппием для осады Иерусалима. Не нашлось бы среди них ни одного не запятнанного кровью. На большинстве тяготело какое-нибудь преступление, и все вообще они были людьми, закореневшими в зле и делавшими его с тщеславием и без страха. Многими отважными приступами и стычками лицом к лицу с неприятелем, столь же страшным и почти столь же искусным, они завоевали свое зловещее наименование. Сами воины легиона, хотя и относились с напускным презрением к дисциплине гладиаторов и подвергали сомнению их стойкость во время продолжительной войны, должны были признать, что в войске не найти солдат, которые могли бы вести колонну в атаку, направлять стенобитные орудия под оплоты крепости, бросаться с диким криком на загроможденные развалины пролома или исполнять какую-либо опасную и отчаянную службу подобно воинам «распущенного легиона».