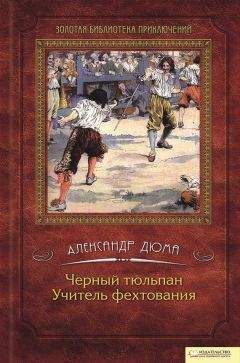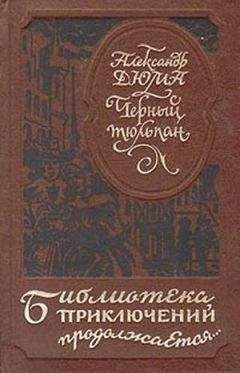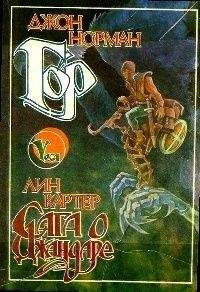Поскольку расплачивался за нас Иван, я поручил ему добавить к расчету стоимость его курицы, а также отдал ему и курицу с просьбой раздобыть еще какую-нибудь провизию, прежде всего хлеб, если возможно, свежее, чем вчерашний. Он отправился на поиски и вскоре вернулся со второй курицей, сырым окороком, съедобным хлебом и несколькими бутылками чего-то вроде водки красного цвета, которую гонят, как мне сдается, из березовой коры.
Все начали запрягать, и я подался в конюшню, чтобы самому выбрать для нас лошадей. Но они, по обыкновению, находились в соседнем лесу. Тогда наш хозяин разбудил мальчишку лет двенадцати-пятнадцати, спавшего в углу, и велел ему их пригнать. Бедный мальчик, проявляя пассивное послушание, свойственное русским крестьянам, безропотно встал, взял длинный шест, вскочил на одну из извозчичьих лошадей и галопом поскакал к лесу. Извозчикам тем временем предстояло выбрать проводника, который принял бы на себя командование всем караваном. Как только таковой избран, все должны будут повиноваться ему, как солдаты – своему генералу, всецело полагаясь на его опытность и отвагу. Выбор пал на извозчика по имени Григорий.
Это был старик лет семидесяти – семидесяти пяти, хотя на вид ему можно было дать никак не более сорока пяти, атлетического сложения, его черные глаза смотрели из-под густых, нависших седоватых бровей, и длинная борода тоже заметно побелела. Он ходил в длинной шерстяной рубахе, туго перепоясанной кожаным ремнем, в ворсистых шерстяных полосатых штанах и шапке, подбитой овчиной мехом наружу. На поясе с одной стороны он носил не то две, не то три лошадиные подковы (они позвякивали, сталкиваясь при каждом его движении), оловянную вилку, ложку и длинный нож, болтавшийся между кинжалом и вторым, охотничьим ножом, с другого бока на том же поясе висели топор с короткой рукоятью и кошель.
Вообще-то костюмы всех ломовиков были примерно такими же, не считая мелких различий.
Как только Григорий был облечен высокими полномочиями, он тотчас приступил к исполнению своих новых функций, приказав всем не копаться, запрягать поживее, тогда можно будет до ночи успеть добраться до хижины, расположенной примерно в конце первой трети пути, и там заночевать. Я попросил его дождаться прибытия наших лошадей, чтобы отправиться всем вместе. Эта просьба была воспринята как нельзя более милостиво. Извозчики вернулись к очагу. Хозяин подбросил в огонь несколько охапок еловых и березовых веток. Взметнулось пламя, которое мы в эти минуты, когда вот-вот придется с ним расстаться, оценили особенно высоко.
Едва мы успели расположиться у огня, как послышался топот копыт: это прискакали лошади, возвращенные из леса. Дверь тотчас распахнулась, и бедный мальчуган, посланный за ними, ворвался в комнату, с невнятным пронзительным криком протолкнулся к огню, рухнул перед ним на колени, протягивая руки к пламени так жадно, будто хотел его проглотить. Все способности и силы его существа, казалось, растворились в блаженстве, которое он испытывал. С минуту он оставался неподвижным, молчаливо, алчно впитывая тепло, потом его глаза закрылись, он обмяк, издал стон и повалился на пол. Я хотел поднять его, взял за руку и с ужасом ощутил, что его плоть проминается под моими пальцами, словно вареное мясо. Я вскрикнул, Луиза бросилась к ребенку, хотела взять его на руки, но я ее удержал. Над ним склонился Григорий, посмотрел и холодно отрезал:
– Ему крышка.
Поверить в это я не мог: на вид мальчик был полон жизни, он открыл глаза и смотрел на нас. Я поднял крик, требовал врача, но никто мне не ответил. Однако пятирублевая купюра возымела действие: один из присутствующих решил все же отправиться в деревню, где имелся некто вроде ветеринара, пользующий людей и лошадей. Тем временем мы с Луизой раздели больного, разогрели над огнем овечью шкуру и завернули в нее мальчика. Он бормотал слова благодарности, но не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, казалось, его разбил паралич. Извозчики же снова вернулись к своим лошадям и собрались уезжать. Я бросился к Григорию, умолял его подождать еще немного, пока придет врач. Но Григорий ответил:
– Будьте покойны, мы двинемся не раньше чем через четверть часа. К тому времени он умрет.
Я вернулся к больному, который оставался под присмотром Луизы. Он пошевелился, пытаясь придвинуться к огню, это вселило в нас какую-то надежду. Тут вошел врач, Иван объяснил ему, с какой целью за ним посылали. Врач покачал головой, подошел к очагу, развернул овчину. Ребенок был мертв.
Луиза спросила, где родители этого несчастного мальчика: она хотела оставить для них сто рублей. Но хозяин сказал, что никого близких у него не было: это, дескать, сирота, которого он растил из жалости.
Погода не сулила ничего хорошего, но делать нечего: отступать было поздно. Теперь Григорий в свою очередь поторапливал нас, повозки перед гостиницей уже выстроились в ряд. Та, что принадлежала Григорию, была во главе каравана, а где-то ближе к середине находились наши сани, запряженные так называемой «тройкой», то есть тремя лошадьми. Мы уселись в них. Иван расположился рядом с возницей на скамейке, приспособленной для него вместо облучка, упраздненного в ходе метаморфозы, постигшей наш экипаж. Раздался продолжительный сигнальный свист, и мы тронулись в путь.
Когда забрезжил рассвет, мы были уже в десяти верстах от деревни. Впереди – казалось, их можно коснуться рукой – высились Уральские горы, через которые мы должны будем перевалить. Но Григорий, как настоящий капитан, управляющий судном, прежде чем двигаться дальше, взошел на холм и определил по расположению деревьев, что мы не свернули с дороги. Итак, мы продолжали двигаться вперед, стараясь не сбиваться с нее и дальше, и меньше, чем за час, достигли западного склона. Там наш предводитель рассудил, что откос слишком крут, а снег еще недостаточно слежался, чтобы повозка, запряженная восемью лошадьми, могла по нему подняться. Поэтому Григорий решил, что повозки нужно доставлять наверх попарно: впрягать в них всех имеющихся лошадей, потом, дотащив, выпрягать, гнать вниз, запрягать в два следующих экипажа, и так до тех пор, пока все десять повозок, составляющих наш караван, не присоединятся к первой паре. Двух лошадей выделили, чтобы припрячь их к тройке, везущей наши сани: способ, каким это было сделано, у нас во Франции назвали бы «арбалетом». Как видим, наши спутники относились к нам по-братски, а при этом все складывалось само собой, у нас еще ни разу не возникало необходимости предъявить приказ императора.