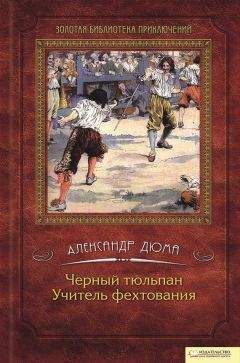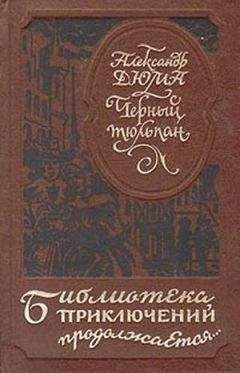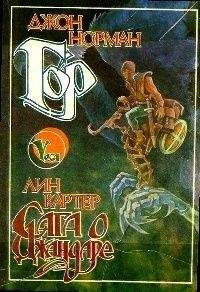– У губернатора.
– Так поспешим к ней! – но тут же он осекся, вздохнув: – Я с ума схожу! Забыл, что я под замком и не могу выйти отсюда без позволения ефрейтора. Мой дорогой друг, приведите Луизу, чтобы я мог увидеть ее, прижать к груди… Нет, лучше останьтесь, пусть этот человек сбегает. А мы тем временем поговорим о ней.
Он сказал несколько слов казаку, и тот отправился исполнять его поручение. Я же стал рассказывать Алексею обо всем, что произошло со дня его ареста: о решении Луизы, о том, как она все продала и каким образом вырученную сумму у нее украли, о ее беседе с императором и о том, как он был добр к ней, о нашем отъезде из Петербурга и посещении Москвы, как нас встретили его мать и сестры, взявшие на себя заботу о его ребенке, потом о нашем отъезде, о тяготах и опасностях, о страшном переходе через Урал, наконец, о прибытии в Тобольск и сюда, в Козлово. Граф слушал мой рассказ, словно волшебную сказку. По временам он хватал меня за руки, всматривался в лицо, чтобы увериться, что это правда, потом вскакивал в нетерпении, подходил к двери, выглядывал и, никого не увидев, снова садился, расспрашивал меня о новых подробностях, а мне не надоедало рассказывать, как и ему – слушать. Наконец дверь распахнулась, и появился казак. Один.
– Ну, что? – спросил граф, бледнея.
– Губернатор сказал, что вы должны помнить о запрете, касающемся всех заключенных.
– О каком запрете?
– Принимать женщин.
Граф провел рукой по лбу и рухнул в кресло. Мне и самому вдруг стало страшно, я смотрел на его лицо, где отражались все бурные чувства, раздиравшие его душу. Помолчав с минуту, он обратился к казаку:
– Могу я поговорить с ефрейтором?
– Он был у губернатора одновременно со мной.
– Будьте любезны, подождите у его дверей и, когда он вернется, передайте, что я прошу его сделать милость: зайти ко мне.
Казак поклонился и вышел.
– Однако эти люди повинуются вам, – сказал я графу.
– Да, по привычке, – отвечал он с усмешкой. – Но вы можете представить что-либо подобное? Ужаснее не придумаешь! Она здесь, в сотне шагов от меня, она проехала девятьсот лье, чтобы быть со мной, а мне нельзя ее увидеть!
– Но это же наверняка ошибка, – возразил я, – какое-то предписание просто было дурно истолковано. Все уладится.
Алексей улыбнулся, выражая сомнение.
– Что ж! Тогда мы обратимся к императору.
– Да, и ответ придет спустя три месяца, а за это время… Боже правый, вы не знаете, что это за край!
В его глазах было столько отчаяния, что я испугался. И снова заговорил улыбаясь:
– Не беда! Если надо, я составлю вам компанию на эти три месяца. Мы будем говорить о ней, это придаст вам терпения. К тому же губернатор со временем смягчится или хотя бы закроет глаза…
Алексей в свою очередь улыбнулся, вздохнул:
– Видите ли, здесь нельзя рассчитывать на такие вещи. Здесь не только земля – все ледяное. Если существует приказ, он будет исполняться. Я не увижу ее.
В этот момент дверь открылась, вошел ефрейтор.
– Сударь! – закричал Алексей, бросаясь к нему. – Женщина, движимая героической, возвышенной преданностью, покинула Петербург, чтобы последовать за мной сюда. Она приехала, пережила в пути тысячу опасностей, и вот она здесь, а этот человек говорит, что мне нельзя увидеть ее… Тут, разумеется, какая-то ошибка?
– Нет, сударь, – холодно отрезал ефрейтор. – Вы прекрасно знаете, что заключенным не положено общаться с женщинами.
– Однако, сударь, князю Трубецкому такое разрешение дали. Это потому, что он – князь?
– Нет, сударь, это потому, что княгиня – его супруга.
– Значит, если бы Луиза была моей женой, нашей встрече не чинили бы препятствий? – закричал граф.
– Никаких, сударь.
– О! – воскликнул Алексей с таким облегчением, словно с его плеч свалилась огромная тяжесть.
Потом, переведя дыхание, он сказал ефрейтору:
– Сударь, будет ли вам угодно позволить священнику прийти сюда поговорить со мной?
– Ему сообщат об этом сию же минуту.
– А вы, мой друг, – продолжал граф, сжимая мне обе руки, – послужив Луизе спутником и защитником, соблаговолите ли теперь послужить ей свидетелем и заменить ее отца?
Я бросился ему на шею и, не в силах вымолвить ни слова, со слезами расцеловал его.
– Ступайте к Луизе, – сказал он, – скажите ей, что мы увидимся завтра.
И действительно, на следующий день в десять утра Луиза, сопровождаемая мной и губернатором, и граф Алексей вместе с князем Трубецким и прочими ссыльными вошли в разные двери маленькой церкви Козлова, в молчании приблизились к алтарю, преклонили колена и только тогда обменялись первыми словами.
Это было обоюдное торжественное «Да», навеки связавшее их судьбы. Царь в личном послании, адресованном губернатору, которое без нашего ведома вручил ему Иван, приказал, чтобы граф снова увидел Луизу не иначе, как в качестве своей супруги.
Как видим, граф предвосхитил желание императора.
Я же, возвратившись в Петербург, нашел там письма, настоятельно призывавшие меня во Францию.
Стоял февраль, море было покрыто льдом, зато санный путь установился превосходно, и я без колебаний воспользовался им.
Решиться покинуть град Петра Великого было для меня тем легче, что, хотя император, несмотря на то что я уехал без разрешения на отпуск, в милости своей не назначил никого на мое место в полку, я из-за того же заговора лишился части своих учеников и к тому же не мог не сострадать этим бедным молодым людям, сколь бы они ни были виновны.
Итак, я снова проехал ту же дорогу, по которой прибыл сюда, где довелось прожить полтора года. На этот раз по широкому снежному ковру я пересек древнюю Московию и часть Польши.
Я как раз въезжал во владения его величества прусского короля, когда, высунув нос из саней, к величайшему своему удивлению, заметил человека лет пятидесяти, долговязого, тощего, поджарого, с ног до головы в черном, обутого в открытые туфли-лодочки с бантами, с цилиндром на голове, с плоским футляром под мышкой левой руки, между тем как правая, держа смычок, порхала в воздухе, как если бы он в шутку изображал, будто пиликает на скрипке. Его костюм показался мне крайне странным, а место – сугубо не подходящим для прогулки по морозу в 25–30 градусов, да к тому же незнакомец, похоже, делал мне знаки. Я остановился, чтобы подождать его. Заметив это, он ускорил шаг, но по-прежнему двигался без особой порывистости, с достоинством, исполненным изящества. По мере того как он приближался, в нем стало проявляться что-то знакомое, когда же он подошел поближе, сомнений не оставалось: это был мой соотечественник, которого я, въезжая в Петербург, повстречал пешего на большой дороге. И вот я вижу его вновь в той же экипировке, но в обстоятельствах куда более серьезных. Оказавшись в двух шагах от моих саней, он остановился, привел свои ноги в третью позицию, провел смычком по струнам невидимой скрипки, приподняв цилиндр тремя пальцами, отвесил поклон по всем правилам хореографического искусства и осведомился: