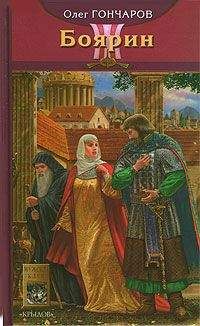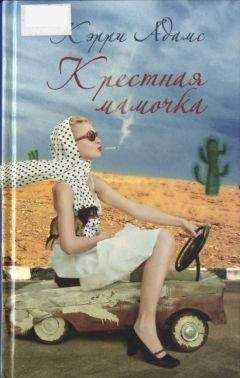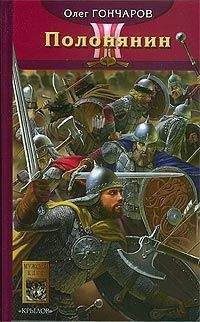– Ишь, купчина с Мариной милуются, – недовольно пробурчал подвыпивший Просол. – И на что ему, страхолюду такому, гречанка?
– Угомонись! – прикрикнул на него кормчий да со всего маху ложкой по лбу залепил. – Что, на гречанке этой свет для тебя клином сошелся? Или других девок тебе мало?
– Ты чего дерешься? – опешил малый да за лоб схватился.
– А ты чего заладил, как волхв на требище: зачем да зачем? Лучше за хворостом сходи. Костер-то потухнет сейчас.
– А чего это я должен по темну блукать? – взъерепенился малый.
– Что ж, по-твоему, мне или Рогозу за ветками бегать? – нахмурился кормчий.
– Будет вам, – успокоил я их. – Пускай Просол у костра посидит, он у нас теперь вроде как раненый. Я за хворостом схожу. Мне перед сном прогуляться охота да на звезды поглядеть.
– Коли охота есть, – сразу успокоился кормчий, – так ступай.
Я и пошел.
Стараясь не сильно шуметь, чтобы не потревожить усталых мужиков, потихоньку выбрался из становища. Обошел его посолонь, стараясь не споткнуться и не свернуть себе шею в темноте.
– В таком мраке только дрова искать, – ругнулся в сердцах. – Удумал кормчий. Ой!.. – споткнулся все-таки. – Чтоб ему завтра опохмела не видеть!
Наконец, оказался я там, куда весь этот вечер стремился, – возле палатки булгарской. Тихонечко полог приподнял и ужом внутрь пролез. Черно здесь, словно в порубе, и душно, только слышно, как предводитель булгарский во сне сопит. Сам хоть и тощий, а воздух портит спросонья не хуже великана сказочного. Видно, по вкусу ему угощение купеческое пришлось, вот его утроба и радуется. Поморщился я, дух тяжелый от носа ладонью отогнал, потом из-за голенища кинжал достал. Хороший кинжал, мне его Претич-сотник в Вышгороде подарил: рукоять удобная, а жало у него острое. Я на сип булгарский подкрался, резко ладонью ратнику рот зажал, чтоб не заорал с перепугу, а кинжал к горлу приставил, чтоб не дергался сильно.
Он хоть и не раскумекал сразу, что с ним случилось, замычал было да вырваться хотел, но я его крепко придавил, да еще и клинком по шее царапнул, чтоб понятливей был.
– Тише! – зашипел на него. – Дернешься – убью!
Притих булгарин, понял меня. Выходит, недаром я Рогоза мучил, язык булгарский перенимал.
– Хорошо, – говорю. – Я смерти твоей не хочу, мне поговорить нужно, – а у самого рука дрожит, уж больно хочется на кинжал посильней надавить, потому как боль сердечная через этого булгарина ко мне пришла. Убить его хочу, но нельзя пока его жизни лишать, потому и сдерживаю себя.
– Я сейчас ладонь от твоего рта уберу, – я ему шепотом, – но если пикнешь, и Мухаммед тебе не поможет.
Чую, он головой кивнул. Вот и славно.
– Как звать-то тебя? – спросил я булгарина.
– Махмуд, – тихо ответил он и снова шумно испортил воздух.
– Ф-у-у! – невольно поморщился я. – Эка тебя раздирает.
– Хвораю я, – извинился он. – Лекари понять не могут, почему меня по ночам так пучит.
– Знаю я твою болезнь, – говорю, а сам смехом давлюсь, как представил себе, что люди подумать могут, коли увидят: два мужика в кромешной тьме лежат, один другому кинжал к горлу приставил и убить собирается, а другой убийце своему на несварение жалится.
А еще вспомнилось, как Берисава мне рассказывала, что хоть дочку уберечь от ярма булгарского не смогла, однако, прежде чем ей копьем бок распороли, успела на предводителя ловцов порчу наслать. Проклятие материнское само по себе великой силой обладает, а из ведьминых уст оно еще страшнее оказалось. Совсем иссох булгарин, зипун его приметный, бляхами железными обшитый, словно на колу, на плечах болтается. Я его, как только увидел, когда его ратники мордву от нас отогнали, так сразу признал. Как же тяжело мне было все это время сдерживаться. Так и подмывало на булгарина наброситься да все про Любавушку мою выведать. Только как же мне его пытать, если языка не знаю? Вот и терпел до поры до времени. А теперь еще оказалось, что порча не только в сухость его вгоняет, а еще и ветры дурные из него выдавливает. Как же не рассмеяться тут?
Но утерпел я и сказал строго:
– В другой раз не будешь по чужим землям ходить да баб невинных в полон брать.
– Вот оно что… – понял Махмуд, почему на него напасть нежданная навалилась. – Это же когда было-то? Я уже больше года из пределов ханских не выбираюсь. Как зимой позапрошлой занедужил, так и отходился. Теперь вот в страже граничной, купцов от налетчиков оберегаю – тем и кормлюсь.
– Вот про ту зиму и поговорим. Помнишь пленников, которых ты со своими людьми на Руси взял?
– Помню, – сказал он. – Три десятка их было – двадцать четыре мужчины и шесть женщин.
– Ты смотри – памятливый. А помнишь ты полонянку, ростом невысокую, глаза у нее зеленые с крапинами карими?
– Как не помнить, – вздохнул он. – Через нее и беды мои. Попортила крови, вот и заболел. Она самая неспокойная была, несколько раз бежать пыталась и остальных подговаривала, даже на меня с кулаками кидалась.
– Это я видел.
– Ты что? Из них? – удивился он.
– Нет, – ответил я, вспомнив, как мы с Баяном на снегу животы морозили, за станом булгарским в лесу заснеженном наблюдали.
Эх, знать бы тогда… но мне словно кто-то в тот миг глаза отвел. Не признал в полонянке бойкой жену свою.
– Что с ней стало?
– Продали мы всех в Булгаре.
– Кому? – Я почувствовал, как у меня от нетерпения кончик носа зачесался.
– Ильясу Косоглазому мы женщин продали. Он всегда хорошую цену за них давал. Только требовал, чтобы мы к нему их здоровыми приводили. Вот… – снова вздохнул Махмуд. – Женщину твою во здравии сохранили, а сам оберечься не сумел.
– Где его искать?
– Известно где, – прошептал булгарин. – На базаре он человек уважаемый, его там каждая собака знает.
– Ладно, – помолчав немного, сказал я, порылся свободной рукой в кошеле, что мне Ольга в дорогу дала, две деньги Махмуду в ладонь сунул.
– Что это? – спросил он.
– Золото, – ответил я. – За то, что ты передо мной не таился.
– Так ты меня убивать не будешь? – изумился он.
– А на кой? – спросил я, потом треснул его кулаком прямо в лоб.
Всхлипнул он и в беспамятство впал.
– Полежи пока, – сказал я и кинжал обратно за голенище спрятал. – К утру очухаешься, а пока и мне, и тебе так спокойней будет.
Тихо из палатки я вылез, огляделся – спокойно все.
– Слава тебе, Даждьбоже! – в небо звездное прошептал и обратно пошел.
– Ты чего не спишь? – спросил меня Рогоз, когда я до костра добрался.
– Так ведь сами велели хворосту набрать, – ответил я и веток в огонь подбросил.
– А-а, понятно, – сладко зевнул старик и на другой бок повернулся.