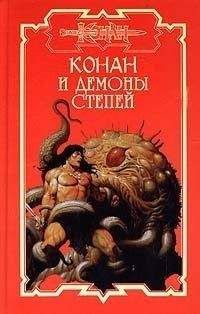По прибытии в Буэнос-Айрес благая мысль осенила капрала. Кроме Мунвоса и трех других солдат, которые сражались с ним вместе против своих бывших товарищей, все мас-горкеры погибли, следовательно, никто не мог знать тайных действий капрала. Муньос, который поджидал его у ворот Буэнос-Айреса, рассеял его беспокойство.
Достойный капрал в сопровождении своих сообщников немедленно отправился к полковнику и подробно живописал ему то, что случилось на постоялом дворе, на чем свет стоит понося дона Гусмана.
Он так ловко обхитрил полковника, что тот, восхищенный его смекалкой и смелостью и вынужденный всему сказанному верить на слово, немедленно произвел его в сержанты, а бригадиру Мунвосу пожаловал галуны. Храбрецы рассыпались в изъявлениях признательности и преданности Розасу, а уходя, смеялись в душе.
В течение шести месяцев, предшествовавших суду над доном Гусманом, Луко проявил чудеса изворотливости, чтобы доказать преданность диктатору, и, надо сказать, что это ему прекрасно удалось. Он завоевал полное доверие диктатора и, когда попросил доверить ему охрану подсудимого во время процесса, немедленно получил высочайшее согласие.
А Луко только того и нужно было. Он поклялся во что бы то ни стало спасти своего господина, а если он принимал какое-то решение, то непременно выполнял.
К сожалению, в данном случае, как ни странно, самые большие сложности создавал сам дон Гусман. Он желал умереть. Луко без конца ломал себе голову, не зная, как преодолеть это препятствие. На все его резоны дон Гусман отвечал, что чаша терпения переполнилась, что жизнь ему в тягость и что единственное благо, на которое он уповал, была смерть.
Луко не мог найти эти доводы убедительными и горестно качал головой. Однажды Луко пришел навестить дона Гусмана с такой сияющей физиономией, что тот не мог этого не заметить и поинтересовался, что это значит.
— Наконец, я придумал, как вас убедить.
— А ты опять за свое, — сказал дон Гусман с печальной улыбкой.
— На этот раз колебаться нельзя. Через два дня состоится суд.
— Чем скорее, тем лучше. Скорее бы наступил конец, — прошептал дон Гусман со вздохом облегчения.
— Так вот, у вас есть надежные друзья, сеньор, в том числе консулы французский и английский. На рейде стоит прекрасная французская шхуна, которая ждет только вас, чтобы выйти в море.
— Если так, то она рискует никогда не покинуть Буэнос-Айрес.
— А я так не думаю. Я уже договорился с французским консулом. Послезавтра шхуна снимется с якоря и пошлет за вами лодку. На шхуне вы оказываетесь под защитой французского флага, и никто не посмеет вам ничего сделать.
— В последний раз выслушай меня хорошенько, Луко, — сказал дон Гусман твердым голосом. — Я не хочу — слышишь! — я не хочу спасения. Я хочу, чтобы моя смерть послужила проклятием тирану. Благодарю тебя за преданность, мой добрый слуга, но требую, чтобы ты не подвергал более себя опасности из-за меня. Обними меня и не будем больше говорить об этом.
— Итак, ваше решение твердо и ничто не может заставить вас изменить его?
— О! Может быть, единственный человек был бы способен повлиять на меня, но этот человек не знает о том, что происходит. К счастью для нее, она лишилась рассудка, а с рассудком и терзающих сердце воспоминаний.
Луко улыбнулся и, расстегнув мундир, вынул письмо из нагрудного кармана, которое молча подал дону Гусману.
— Что это, Луко? — воскликнул дон Гусман, не решаясь взять письмо.
— Читайте, читайте, — ответил старый слуга. — Я хотел сделать вам сюрприз, как только вы окажетесь на свободе, но вы так упрямы, что вынудили меня сделать это теперь.
Дон Гусман распечатал письмо дрожащей рукой и быстро пробежал его глазами.
— Боже всемогущий! — вскричал он в волнении. — Возможно ли? К Антонии возвратился рассудок, она приказывает мне жить!
— Будете вы повиноваться мне на этот раз?
— Делай, что хочешь, Луко, я буду повиноваться тебе во всем. О, теперь я хочу жить!
— Вы будете жить, клянусь вам, — и Луко попрощался с доном Гусманом.
Наконец настал день суда. Диктатор, зная настроение горожан в связи с предстоящим судом, позаботился о том, чтобы укрепить гарнизон Буэнос-Айреса частями из других городов скорее для острастки друзей дона Гусмана нежели для охраны его.
Французская шхуна, как сказал Луко, направила на берег лодку под предлогом рассчитаться с поставщиками, потом снялась с якоря и медленно раскачивалась на волнах на небольшом удалении от берега.
Улицы, по которым должны были везти дона Гусмана из тюрьмы в суд, были полны любопытных, которых стоящие по обе стороны солдаты сдерживали с трудом.
Отряд, сопровождавший арестанта, был многочислен и состоял из самых преданных Розасу солдат. Отрядом командовал полковник дон Бернардо Педроза, а взвод, непосредственно отвечавший за охрану арестанта, возглавлял сержант Луко и капрал Муньос.
За двадцать минут до того, когда дона Гусмана должны были везти в суд, Луко вошел в его камеру и вручил ему две пары пистолетов и кинжал.
— Помните, что действовать надо, только когда я громко скажу: «Черт побери, это солнце! Оно слепит глаза!» Эта фраза послужит вам сигналом.
— Будь спокоен, я не забуду. Ты же, в свою очередь, помни данное мне обещание, скорее убить меня, чем позволить снова попасть в руки тирана.
— Договорились. Помолитесь Богу, чтобы Он нам помог. Нам очень нужна Его помощь.
— До свидания, Луко! Ты прав, я помолюсь.
Между тем, чем ближе была эта минута, тем озабоченнее становился Луко, хотя он всячески скрывал это, дабы не поколебать веру в успех в своих сообщниках.
Наконец, тюремные часы пробили десять. Барабанный бой возвестил начало этой печальной процедуры. Заполнившие площадь зеваки воззрились на ворота тюрьмы, откуда должен был появиться дон Гусман.
Ждать пришлось недолго. Ворота отворились, и вышел дон Гусман. Лицо его было спокойно, однако с печатью неукротимой решимости. Он шел размеренным шагом в окружении кавалеристов под командой сержанта Луко. Рядом с ним справа ехал Луко, а слева — Муньос.
Впереди этого взвода ехал усиленный отряд солдат во главе с полковником доном Бернардо Педрозой на великолепном черном жеребце, замыкал шествие второй отряд, такой же многочисленный, как и первый.
Вся эта огромная кавалькада медленно шествовала сквозь волны печального, угрюмого и безмолвного народа, с трудом сдерживаемого двумя цепочками часовых.
Стояло великолепное весеннее утро, одно из тех, какие бывают только в Южной Америке, степной катер, напоенный душистыми травами, шелестел в листве деревьев, навевая прохладу.