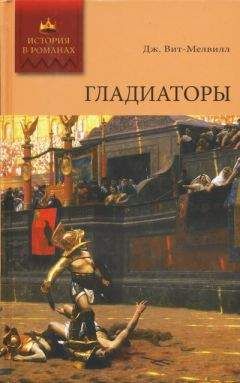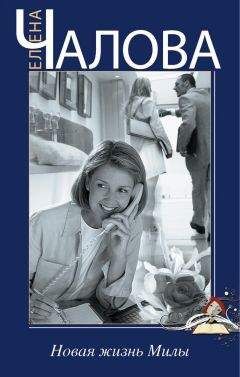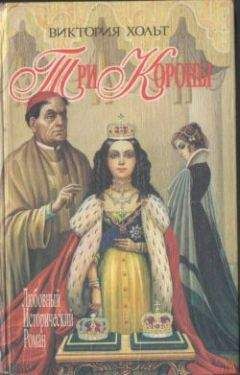— Ну, по крайней мере, — прошептал он, опираясь рукою на стол, чтобы удержаться, — кубок почти пуст, и, вероятно, яд произвел свое действие. Сначала нужно удостовериться в трупе, а затем всегда будет время найти Валерию.
Если бы его телесные страдания были менее мучительны, он засмеялся бы злобным, сдержанным хохотом при мысли, как ловко обошел он женщину, которую любил. Теперь же его смех заменился гримасой, более выражавшей страдание, чем веселость. И, не попадая зубом на зуб, вздрагивая всем телом от конвульсий, нетвердым, неуверенным шагом трибун направился во двор, чтобы удостовериться собственными глазами, что мощное тело того, кто внушал ему такой страх, уже окоченело в объятиях смерти.
Первым чувством его был бы необычайно сильный страх, если бы только, гнев не подавил совершенно этого чувства, когда он увидел, что цепь и шейная колодка раба валяются на плитах. Очевидно, Эска убежал, и, что всего важнее, убежал, держа в своих руках жизнь своего недавнего господина. Но Плацид был одарен живым и продуктивным умом в измышлении внезапных комбинаций. Ему тотчас же пришла в голову мысль, что он был одурачен Валерией и что она убежала вместе с рабом.
Удар был жесток, но он возвратил ему присутствие духа и спокойствие. Пройдя быстро по коридорам и остановившись на несколько минут для того, чтобы смочить холодной водой свою голову и лицо, он вошел в залу пиршества; здесь он бросил взгляд на кубок, из которого пил в последний раз, понюхал его и даже, несмотря на происшедшее, попробовал содержащуюся в нем влагу. Снадобье было приготовлено так искусно, что во вкусе вина нельзя было почувствовать ничего подозрительного. По мере того как его физические силы восстанавливались, мозг его начинал работать сильнее, и теперь, рассуждая обо всех обстоятельствах, он пришел к верному заключению и решил, что Валерия переставила кубки с места на место, когда его внимание было рассеяно прелестями патрицианки. Он говорил себе также, что им был куплен яд, действие которого было несомненно, и не мог допустить мысли, что Петозирис осмелился, из одной любви к обману, дать вместо смертельного напитка простое снадобье. Трибун испытывал гордость, думая о том, что его мощное телосложение устояло даже против действия такого яда и что у него, столько раз ускользавшего из когтей смерти на поле битвы, в самом деле должен быть какой-то талисман, охраняющий его жизнь. Если бы даже в его ум и вошло подозрение, что яд находится в нем и, дав ему минутную передышку, воздействует после с большей силой, то безотчетный ужас этой мысли только побудил бы его с большим пылом воспользоваться остающимся временем, чтоб посвятить его своим делам и удовольствиям, оставив в стороне священный долг мести. Dum vivimus, vivamus[33] — таков был девиз трибуна, и, хотя бы ему оставалось жить только час, он равномерно распределил бы его между любовью, вином и удовольствием делать зло.
Быстро, хотя и хладнокровно он осмыслил свое положение, как если бы он стоял во главе когорты, сжатой со всех сторон европейской армией. Приближающейся ночи суждено было увидеть либо его падение, либо возвышение. Скоро придут гладиаторы. Эска, должно быть, уже вошел во дворец и поднял тревогу. Почему же центурион цезаря еще не пришел с достаточной стражей, чтобы арестовать его в собственном доме? Он мог явиться каждую минуту. Не бежать ли ему теперь же, пока еще есть время? Это бегство лишило бы его блестящей будущности, какой он почти уже достиг. Нет!.. Ему удастся избежать и этого несчастия, как он избег столь многих других благодаря своей ловкости и хладнокровию. Человек, не останавливающийся ни перед чем, никогда не будет притиснут к стене. Покинуть свой дом теперь значило бы молчаливо признаться в своем преступлении. Наоборот, когда его найдут одного, беззащитного, ничего не подозревающего, это будет сильным доказательством его невинности. Здесь, по крайней мере, будет достаточный повод для того, чтобы предстать перед цезарем. А там что может быть легче, как обвинить раба в измене, убедить императора, что варвар замышлял покушение на жизнь своего господина, рассмешить старого обжору и весельчака, рассказав ему историю об отравленном кубке, а потом закончить ночь разгульной попойкой у царственного амфитриона?
А затем он стал бы руководствоваться теми приготовлениями к защите, какие ему удалось бы заметить во дворце. Если эти приготовления были бы ничтожны, он нашел бы возможность соединиться с Гиппием, и нападение сделалось бы еще более легким благодаря его присутствию внутри дворца. Если бы, наоборот, он заметил явное намерение сильно сопротивляться, заговорщики получили бы совет отложить на время свое предприятие. Предполагая худшее, он все же мог спасти свою голову, обвинив своих соучастников и выдав на смерть Гиппия и гладиаторов.
Совесть слегка кольнула его, когда он подумал о подобной альтернативе, но аргументы его своеобразной философии очень скоро заглушили эти укоры. Если бы его в самом деле застали председателем ужина, в котором принимали участие эти отчаянные люди, они могли бы защищаться, а он тем временем тотчас побежал бы к цезарю и немедленно принес бы всех их в жертву. Как бы то ни было, говорил он себе, он купил их и имел право пользоваться ими.
Между тем не замедлила бы прийти и Мариамна. Ей следовало бы прийти уже давно. Как бы грозно ни было будущее, час, полчаса, в крайнем случае четверть, должно было отдать ее обществу, и после этого, что бы ни случилось, он мог сказать себе, что по крайней мере не все его проекты потерпели неудачу. В ту именно минуту, когда он пришел к такому заключению, Эска увидел из своей засады бледного, осунувшегося, похожего на привидение трибуна, отдающего приказания касательно ужина.
Вечер проходил. Солнечные часы уже не указывали времени, и раб, на обязанности которого лежало считать время при помощи клепсидры[34], бывшей тогда в моде, возвестил, что уже началась первая ночная стража. Следом за ним перед Плацидом предстал Автомедон, с опущенной головой, расстроенный, задававший себе печальный вопрос: не потеряет ли он благоволения господина, рассказав принесенные им новости. В самом деле, всегда опасно было докладывать Плациду о неуспехе какого-либо из его предприятий. Правда, он выслушивал говорящего спокойно и без видимого волнения, но рано или поздно ему всегда удавалось отплатить злополучному вестнику за те неприятности, какие ему причиняло его известие.
Лишь только юноша появился в зале, лицо трибуна прояснилось, однако по своей двуличности он скрыл даже от своего возницы то нетерпение, с каким ждал его возвращения.