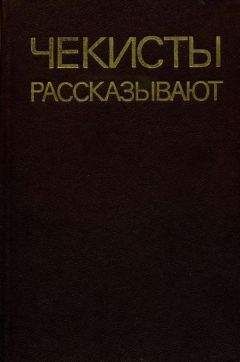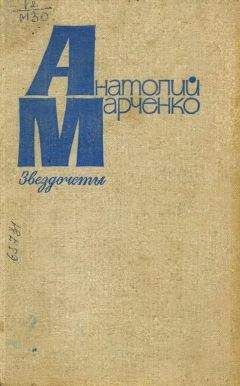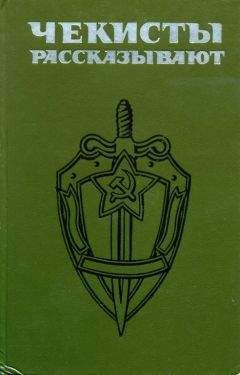— Двадцать три? — переспросил Дзержинский. — Но это же сила. А завтра — я уверен, я бесконечно убежден в этом, Яков Христофорович, — к нам придут новые бойцы. Коммунисты. А главное, сила ЧК в беззаветной поддержке народа.
Дзержинский задумался. Нужно было выполнять решение Совнаркома.
Но все же почему именно ты поставлен на этот пост? Ты, самой желанной мечтой которого была мечта стать учителем. Ты, который как-то в порыве откровенности сказал Луначарскому: «Вот победим, пойду в Наркомпрос». Пока не получилось.
Дзержинский не знал, что после закрытия заседания Совнаркома Ленин сказал:
— Теперь защита революции в надежных руках. И знаете, что самое главное? Дзержинского глубоко любят и ценят рабочие...
Дзержинский открыл портфель, выложил бумаги на пыльный стол. Мельком взглянул на календарь.
Шли последние дни тысяча девятьсот семнадцатого года.
Впереди тысяча девятьсот восемнадцатый. Впереди — переезд в Москву, вооруженные выступления анархистов, заговор Савинкова, мятеж «левых» эсеров, покушение на Ленина, убийство Урицкого, заговор Локкарта, взрыв в Леонтьевском переулке, дело «Национального центра», дело «Тактического центра» и еще дела множества других вражеских «центров».
Впереди была борьба не на жизнь, а на смерть.
А сейчас по метельному Петрограду, как и по всей стране, шел сорок четвертый день революции.
— На Лубянку, — коротко сказал Дзержинский, открывая дверцу автомобиля.
Шофер молча кивнул и включил зажигание. «Паккард», натужно гудя мотором, медленно тронулся с места.
Откинувшись на спинку сиденья, Дзержинский тут же вынул из кармана гимнастерки блокнот и карандаш. Машину потряхивало на булыжной мостовой, но все же можно было писать, оперев блокнот о колено. Будто обгоняя друг друга, на сероватом листке возникали строчки:
«С. С. Дзержинской. Москва, 29 августа 1918 г.
Зося моя дорогая и милый мой Ясик!
В постоянной горячке я не могу сегодня сосредоточиться, анализировать и рассказывать.
Мы — солдаты на боевом посту. И я живу тем, что стоит передо мной, ибо это требует сугубого внимания и бдительности, чтобы одержать победу. Моя воля — победить, и, несмотря на то, что весьма редко можно видеть улыбку на моем лице, я уверен в победе той мысли и движения, в котором я живу и работаю...»
Дзержинский с трудом дописал последнюю строку:
«А здесь танец жизни и смерти — момент поистине кровавой борьбы, титанических усилий...
Ваш Феликс».
Дотронулся ладонью до левой стороны груди. С самого утра нестерпимая боль стискивала сердце. Но отдыхать было некогда.
Пока не приехали на Лубянку, можно заполнить анкету. Уже несколько раз звонили из Комиссии по проверке работников советских учреждений, напоминали. Стоит прийти в свой кабинет на Лубянке, будет, как всегда, не до анкеты.
Дзержинский достал из кармана листок с вопросами:
«Сколько часов работаете в день урочно и сколько сверхурочно?»
«Работаю, сколько нужно», —
стремительно сформулировал ответ.
Что еще?
«Пользуетесь ли Вы в советских учреждениях духовной пищей — книгами, театрами и т. п. И сколь удовлетворительно?»
Вот и попробуй ответить на этот вопрос. Все равно что спросить: любите ли вы дышать? Человек немыслим без приобщения к духовным ценностям, которые он сам же и создавал в течение многих тысячелетий.
И все же, как ответить? Раньше он читал много и жадно — в детстве, в юности. В тюрьмах и ссылках особенно: чего-чего, а уж времени там хватало. В одном из его писем на волю есть даже такая строка:
«Время убиваю чтением».
А сейчас? Сейчас он читает одну-единственную книгу — книгу жизни, в которой или мы, или они — середины нет.
Так как же ответить? Покривить душой? Но он никогда не кривил душой, никогда...
Дзержинский черканул по листку так резко, что едва не сломал карандаш:
«Нет, нет времени».
Нет времени, чтобы дышать?!
И снова почувствовал, как еще сильнее стиснуло гулко забившееся сердце.
Что там еще?
«Состояние Вашего здоровья».
Дзержинский медленно, стараясь не прислушиваться к боли в груди, вписал ответ в соответствующую графу:
«Здоровьем не отличаюсь...»
Вопрос пятнадцатый:
«Кем рекомендованы на службу?»
Здесь все ясно. Совнаркомом. Точнее, Лениным. Владимиром Ильичем Лениным.
Дзержинский ушел в свои мысли. Анкета... Крохотный листок, семнадцать вопросов, а штука всесильная — заставляет пройти по вехам едва ли не всей человеческой жизни. И как бы ни субъективны были ответы — наверное, и через века способна она донести до людей хотя бы главные штрихи того человека, который ее заполняет. Нет, не зря, наверное, придумали ее люди, стремясь остановить мгновение жизни...
Дзержинский не заметил, как «паккард» остановился у подъезда.
— Приехали, — негромко напомнил шофер.
Дзержинский стремительно — будто не было ни письма, ни анкеты — вышел из машины и так же стремительно вошел в подъезд.
На пороге его встретил дежурный по ВЧК:
— Феликс Эдмундович, в Петрограде убит Урицкий. Срочно позвоните товарищу Ленину...
Клэр Шеридан была согласна с Пушкиным: осень — лучшая пора для вдохновения.
Видимо, по этой причине, а также из-за неутихающей с годами страсти к путешествиям Клэр выбрала для своей поездки в Россию именно осень.
Была и еще одна, пожалуй, самая главная причина, повлиявшая на ее выбор. Об этой причине Клэр не говорила вслух. Ее дядя, прожженный политикан, счел своим долгом поторопить ее с поездкой. Нещадно дымя сигарой, он взял своей массивной тяжелой рукой ее маленькую ладонь и, бережно сжимая хрупкие длинные пальцы, сказал, выпячивая толстую нижнюю губу:
— Если бы я был уверен, что смогу отговорить тебя от этой сумасбродной поездки... Клэр, ты хочешь очутиться в пасти самого дьявола. Но мне известен твой характер. Поэтому дам лишь единственный совет: поторопись. Сейчас на календаре октябрь тысяча девятьсот двадцатого. Большевики чудом удержались три года. Это противоестественно. Экономика стягивает их политику стальной петлей. Ни одно уважающее себя государство Европы не захочет их признать. Я уж не говорю об Америке. Представь себе наш земной шар. Повсюду мы, и только крохотным островком, да-да — громадность территории России не в счет — крохотным островком посреди океана пашей цивилизации — большевистская страна. Она дышит на ладан. Поторопись, моя крошка, иначе ты не успеешь сделать скульптурный портрет самого Ленина. И еще: если ты попадешь в застенки ЧК, я не смогу найти общего языка с Дзержинским.