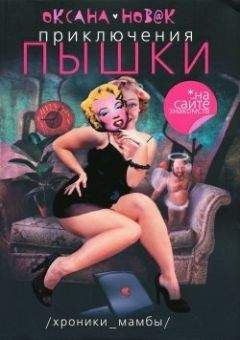И вот потом откуда ни возьмись рождается, является миру, заново открывается гигантская рана. Твой выросший ребенок ненавидит и обвиняет тебя, лжесвидетельствует против тебя, или бывший любовник твоей сестры обвиняет кого-то из родственников в омерзительном преступлении, чтобы насладиться местью. Или кто-то крадет твои пенсионные сбережения. Или твой бывший женится на прелестной девушке-подростке.
Я известна как человек, который время от времени точит на кого-нибудь зуб, обычно – на людей негодных. Однако не так давно я была безумно зла на папу – человека, которого любила больше всех.
Проблема в том, что к тому времени он уже тридцать четыре года был мертв. Умер трагически, слишком молодым. Так что можно было бы дать ему кое-какие поблажки.
Не тут-то было.
Я была – серьезно! – идеальной дочерью. Получала ради него отличные оценки, сплачивала семью, чесала ему пятки и читала, далеко опережая свой возраст. Позднее научилась ослеплять его друзей очарованием. Ему это нравилось. Я смотрела сквозь пальцы на слабости его характера и ту разруху, в которую они ввергли семью. Смешивала ему выпивку – и пила вместе с ним. Я стала той, кто есть: писательницей, интеллектуалкой, собеседницей – все для того, чтобы угодить ему.
Мне было двадцать три, когда он заболел раком мозга – ему тогда только перевалило за пятьдесят, после чего посвятила себя уходу за ним. Я была рядом с ним каждый день, потому что его подруга Ди и мой старший брат работали, а младший учился в школе. Я два года возила его по врачам, на химию, радиологию. Я не давала умереть надежде на то, что его разум по-прежнему работает, а потом стала его сиделкой в хосписе и матерью, когда разум отказал.
Я так и не оправилась до конца от его смерти – и тосковала невыразимо. Многое из его жизни и увлечений – литература, пешие походы, птицы, писательство – стало моим. Если не считать тех самых слабостей характера – вино, женщины, обращение с моей мамой, – он был прекрасным отцом: красивым и остроумным, как Кеннеди.
Однако несколько лет назад мне в руки попал дневник, который он вел с того времени, когда обнаружился рак мозга. Собственно, Ди прислала его мне с Восточного побережья, где уже тридцать лет жила с мужем, приложив записку, в которой говорилось, что, как ей кажется, мне хотелось бы иметь этот дневник у себя. Мы с ней не разговаривали с момента смерти папы. Ему поставили диагноз всего через месяц после того, как они полюбили друг друга, и хотя мы знали, что ей достался счастливый билет, между нею и мной с братьями существовала дистанция – и пока папа был жив, и когда он умер.
Я нырнула в этот дневник – в озеро, в котором мой отец снова был живым, – радуясь возможности услышать его голос, горя нетерпением прочесть добрые воспоминания… в основном, разумеется, о нем и обо мне.
Но вместо этого он писал, как утешают его общество и преданность Ди, довольно резко отзываясь обо мне: скажем, как неприятно ему было, когда я порой давала слишком много воли эмоциям. Например, я, не скрываясь, плакала, потому что человек, которого я любила больше всех на свете, умирал таким молодым. Он писал кое-что о том, как я переигрывала, стараясь быть мужественной и не терять надежду. Он писал: «Энни приехала в больницу, полная обычной фальшивой жизнерадостности и скверных шуток».
Прочтя это, я ощутила себя так, будто в известном мне мире отныне не осталось ничего несомненного. Я была уязвлена, потрясена – и не понимала, с чего начать это перерабатывать. Поэтому отключилась.
К следующему дню, когда слезы иссякли, сердце мое окаменело. Я вынесла его – буквально: отнесла дневник в гараж. И призвала всю самооценку, какую сумела наскрести, и гнев. Черт с ним. Какой же мертвый человечишко! Вот и говорите о неудачниках! Серьезно ведь – мертв, как гвоздь в притолоке. Я зря тратила свою жизнь, пытаясь заставить его любить и уважать себя. Сначала надо было поладить с собственной жизнью.
Ага, точно!
Несмотря на разговоры об этом предательстве с лучшими друзьями, с психотерапевтом и с младшим братом, который был едва упомянут в злосчастном дневнике, я не могла избавиться от негодования. Гематома ушла слишком глубоко – и отравляла меня. Негодование может заставить даже лучших из нас преисполниться чувства превосходства. Я всегда находила в нем некое утешение, словно оно – муляж «обезьяньей мамочки» (эксперимент, в ходе которого в клетку к маленьким обезьянам «подсаживали» обтянутый шкурой столб, игравший роль «матери»).
Негодование может заставить даже лучших из нас преисполниться чувства превосходства.
Я прошла через все стадии креста: обиду, онемение, отвращение, мысли о мести, реверсию к ребяческому ответу Тони Сопрано своей матери: «ты для меня мертва». Тоже мне, рецепт самоуважения: в шестьдесят вести себя, как десятилетний ребенок. Ты мертв для меня – дважды мертв, бесконечно мертв!
Наркоманы и алкоголики расскажут, что выздоровление началось, когда они проснулись в состоянии, достаточно жалком и деградированном, чтобы отважиться на Нулевой Шаг, а именно: «Это дерьмо должно прекратиться». К счастью, имея за плечами двадцать шесть лет в церкви, двадцать пять – выздоровления от алкоголизма, двадцать – блестящей, пусть и пунктирной психотерапии, а также благодаря присутствию любящих друзей я добралась до Нулевого Шага всего за год. Ну, может, за полтора.
Взросление происходило далеко не так эффективно, как я надеялась.
Однако наконец я выбралась из пропасти на Нулевой Шаг. Вся полнота бытия была в дыре сознания своей правоты. Я уже не была готова позволять постоянно вспыхивающему оскорблению обременять меня – и уничтожать все прочие представления о жизни и о самой себе.
Каким-то образом появилось мимолетное сомнение в том, что это со мной так поступили, а не что мой отец действовал с позиции собственных страхов и компульсий, своей потребности изложить правду. (Как действовала я с позиции своих страхов и компульсий, а Ди – своих, послав мне дневник и не предупредив о его содержании.)
Начало прощения – это изнеможение. Ты покакала: возблагодари Бога.
К Богу не попасть силой воли. Готовность исходит из движения мудрости и доброй воли – или того, что в безумные моменты импульсивности я называю благодатью. Есть куда более возвышенные примеры, чем собственные. Люди говорили Роберту Ли в сериале «Аппоматтокс»: «Если ты остановишься сейчас, значит, все эти жизни были прожиты напрасно». Но он ответил: «Довольно. Все кончено». После 1945 года вопреки мнению людей, говоривших: «Давайте вобьем немцев в землю», – в жизнь вступил план Маршалла. Давайте восстанавливать. Давайте поможем нашим врагам восстановиться – и посмотрим, что будет.
К Богу не попасть силой воли. Готовность исходит из движения мудрости и доброй воли – или того, что в безумные моменты импульсивности я называю благодатью
Я покончила с непрощением отца или Ди, и это было началом, но я чувствовала себя, как трясущийся посиневший ребенок, которому велят прыгнуть в холодное озеро.
Ужасно, но когда хочешь избавиться от боли, надо на нее настроиться – и подключиться напрямую. Чтобы узнать, сколько токсина в тебя просочилось.
Ужасно, но когда хочешь избавиться от боли, надо на нее настроиться – и подключиться напрямую. Чтобы узнать, сколько токсина в тебя просочилось.
И я начала дышать в кулак, словно ослабляя узел. Воздела очи к отцу, который пребывал на небесах, и это открыло мне его в настоящем свете: он больше никогда не будет живым. Он расплатился сполна. Какой ущербный и сложный человек – какой эрудированный и блестящий! Он смотрел на следы дорожек от уколов на руках моего пятнадцатилетнего брата и делал вид, что ничего не видит. Стоял бдение в Сан-Квентине, когда кого-нибудь казнили в газовой камере. Выстраивал теплые активные отношения между своими детьми и любовницей. Брал нас собирать моллюсков в сильный отлив, копался совочком в пропитанном водой песке, а потом готовил похлебку из собранной добычи. Фантастически писал и зарабатывал на жизнь творчеством, однако умер в долгах. Предал свою давнюю любовницу, с которой еще раньше предал нашу мать, – и жил по словам Эмерсона: «Воистину счастлив тот, кто научился уроку поклонения от самой природы». И встретил смерть с великим достоинством.
Я никогда не узнаю, откуда пришла эта готовность увидеть его настоящего, хотя бо́льшая часть прозрений возникает из разговоров с друзьями. Когда мое сердце слегка смягчилось, нутро, этот престол боли, поднялось и удивленно сказало: «Эй, погоди-ка… я это поддерживаю. Я поддерживаю тебя».
Увидев отца истинным, я смогла собраться с мужеством, чтобы противостоять негодованию и сказать себе: больше не лишаюсь чувства скромного великодушия.
Люди любят говорить: «Прощение начинается с прощения самого себя». Как мило! Спасибо, что сообщили. Так – да не так. Прощение определенно не начинается с логических доводов. Рациональное настаивает, что мы правы, стремится к нападению и защите. А это означает, что мира не будет. Оно любит сказочку на ночь – о том, как нас обидели. Рациональное клаустрофобно, поэтому выбор таков: хочешь ли ты застрять в своей правоте, но не быть свободным или признать, что слегка потерялся и стал доступен для долгого, глубокого вдоха – великого, как Вселенная.