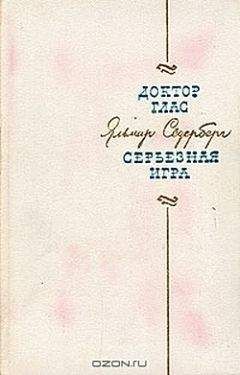Яльмар Сёдерберг
Серьезная игра
I
«…мне несносна мысль о том, что кто-то ждет меня…»
Купалась Лидия всегда одна.
Так уж ей нравилось, да в этом году и не с кем было ей купаться. И не страшно вовсе: отец сидел неподалеку, писал свои «морские этюды» и поглядывал, не идет ли кто.
Она вошла в воду чуть повыше пояса. Тут она остановилась и подняла руки, сплела пальцы на затылке, и круги побежали по воде, пропали, и из глади глянуло на Лидию ее восемнадцатое лето.
Потом она бросилась в воду и поплыла над зеленой глубиной. Вода несла ее, и приятно было чувствовать свое тело — такое легкое. Она плыла спокойно, тихо. Что-то окуней не видно; она с ними всегда играет. Однажды чуть было не поймала одного, даже ухватила за плавник…
Она наскоро обтерлась полотенцем, а потом ее как следует обсушило солнце и теплый ветер. И она распласталась на плоской прибрежной скале, гладко отшлифованной волнами. Сперва она улеглась на живот, подставила солнцу спину. Она и так уже вся была загорелая — и тело и лицо.
Ленивые мысли пробегали в мозгу. Вот скоро обед. Кажется, сегодня жареная свинина со шпинатом. Оно бы и не дурно, да вот беда — обед всегда самое противное время дня. Отец за столом почти ничего не говорит, брат Отто только молчит и злится. Бедному Отто невесело. Здесь у нас инженеру приходится туго, осенью Отто уедет в Америку. Единственный, кто болтает за столом, это Филип. Но и этот ничего путного никогда не скажет — все толкует о каких-то прецедентах, казусах, продвиженьях по службе и прочей чепухе. Все вздор. И говорит-то он только для порядку, чтобы не молчали за столом. А тем временем высматривает на блюде кусок получше.
Но она ведь любит, все равно она любит и отца и братьев. Странно, отчего такая тоска — сидеть за накрытым столом с близкими, которых любишь всей душой…
Она перевернулась на спину, заложила руки под затылок и глядела в синеву.
Она думала: синее небо, белые облака. Синее — белое. Синее — белое. У меня синее платье с белым кружевом. Лучшее мое платье. Но отчего я так особенно его люблю? Оттого, что оно было на мне тогда…
Любит он меня или нет? Ну конечно, любит.
Но любит ли он меня по-настоящему?
Ей вспомнился недавний вечер, когда они сидели в беседке в сиреневых кустах, одни. Он вдруг сделался дерзок, и она напугалась. Но он тотчас одумался, понял свою ошибку, он взял ее руку, ее отстраняющую руку, и поцеловал так, словно хотел сказать «простите меня».
«О да, — думала она, — он любит меня по-настоящему. И я его люблю. Я люблю».
Она так задумалась, что не заметила, как губы у нее зашевелились и сами собой сложились в шепот: «Люблю».
Синее — белое. Синее — белое. И плеск воды, плеск, плеск…
Потом ей подумалось, что ведь только этим летом она поняла, как хорошо купаться одной. Странно. Отчего бы? И ведь как славно. Когда купается несколько девушек, над водой вечно стоит хохот и гам. Но куда лучше одной, в тишине, слышать только плеск, плеск воды о скалы.
Уже одеваясь, она все же стала напевать песенку:
Время придет, мой друг,
Спросит священник вдруг,
Хочешь ли ты, чтоб я
Стала твоя[1].
Но слов она не произносила, просто напевала мелодию.
Художник Стилле издавна снимал каждое лето красный рыбачий домик далеко в шхерах. Он писал сосны. В свое время о нем говаривали, что он открыл сосну шхер, подобно тому как Эдвард Берг открыл шведскую березу. Чаще всего он писал сосны после дождя, когда стволы влажно блестят на солнце. Но ни дождя, ни солнца для этого ему не требовалось, он выучил пейзаж наизусть. Не пренебрегал он и закатными бликами на тонкой, розовой коре у верхушек и на раскидистых ветках. В шестидесятых годах он получил медаль в Париже. Самые нашумевшие его сосны висели в Люксембургской галерее, да в Национальном музее было два-три полотна. Теперь — к концу девяностых годов — ему перевалило далеко за шестьдесят, и его несколько отодвинула в тень растущая конкуренция. Но работал он с прежним усердием многотрудной юности, и к тому же умел ловко сбывать свои сосны.
— Писать картины — это еще не искусство, — повторял он часто. — Как я их писал сорок лет назад, так и нынче пишу. Продавать — вот это искусство, и надобно время, чтобы его постичь.
Секрет, однако же, был простой: продавал он дешево. И перебивался кое-как с женой и тремя детьми, не ссорясь ни с людьми, ни с Богом. Последние два года он вдовел. Небольшой, крепкий, жилистый, со сквозящей под легким пушком бороды свежей розовой кожей, он и сам походил на старую сосну.
Живопись была его ремесло; но страсть его была музыка. Когда-то он забавы ради изготовлял скрипки и мечтал воскресить забытые секреты старых мастеров. Это было давно. Но он и сейчас еще любил в субботние вечера, зажав в зубах трубку, водить смычком по струнам, ублажая охочих до танцев местных жителей. И счастлив был, когда ему доставалось петь баритоном в квартете. Оттого и в тот день за обедом он был отлично расположен.
— Вечером будем петь. Звонил барон, он будет у нас, а с ним Шернблум и Ловен.
Барон владел небольшим именьем наискось через залив и был ближайший их сосед-помещик. Кандидат Шернблум и нотариус Ловен у него гостили.
Лидия тотчас вскочила и выбежала зачем-то на кухню. У нее горели щеки.
— Я петь не стану, — вскинулся Филип.
— Как угодно, — проворчал отец.
Дело в том, что квартет не совсем был обычный: в нем пели два лирических тенора. Старик Стилле все еще обладал роскошным баритоном. Барон уверял, что может петь каким угодно голосом «равно отменно скверно», и остановился, однако, на басе. Драматическим тенором пел Шернблум. Лавры же и ответственность лирического тенора делили меж собой Филип и Ловен. Голос Филипа был небольшой, нежный и чистый — решительно лирический тенор. У Ловена голос был сильный, и Филип совершенно тонул в его бурных волнах. Ловен уверял, что ему предлагали петь в Опере. Зато Филип гордился своей незаменимостью, коль скоро речь заходила о тонкостях, ибо лира его соперника обладала двумя лишь тонами: форто и фортиссимо. К тому же певческую страсть Ловена одолевала другая: когда сердцем его владела любовь, он пел фальшиво либо пускал петуха.
Отто нарушил молчанье за столом.
— Да ну, — сказал он, — будешь ты петь, как миленький. Кто это видал тенора, который бы помалкивал, когда при нем поют!
— Споешь то, что тебе подходит по голосу, — заключил отец.
Филип хмуро ковырял вилкой в шпинате. Он решил, что, пожалуй, даст им уговорить себя пропеть с ними «Warum bist du so ferne»[2]. Он помнил, как впервые пели «Warum». Ловен наврал, и барон тотчас постучал камертоном по подносу с пуншем и сказал:
— Да замолчите вы, Ловен, дайте спеть это Филипу, он сумеет!
И Филип вспомнил, как превосходно, как изящно и точно он тогда спел.
Лидия вернулась к столу.
— Я справилась насчет ужина, — сказала она. — С обеда осталась свинина. А еще у нас есть салака, картошка, селедка да окуни, что наловил Отто. Вот и всё.
— И вино, и пиво, и пунш, и коньяк, — добавил Отто.
— А чего же вам еще? — возразил старик Стилле. — Чем уж Бог послал.
Августовское солнце уже катилось к западу, когда из-за мыса показался легкий парусник барона. Ветра не было, гребли. Когда лодка приблизилась к пристани, парус спустили, подняли весла, барон настроил камертон, и, качаясь на зыби залива, трое в шлюпке завели трио Бельмана[3].
Спит река, и волны спят,
ветер сполз в лощины,
только слышно, как звенят
наши мандолины
в тишине равнинной.
Месяц воду серебрит.
Запахи жасмина
и сирени ночь струит.
Блеском золота богат
пестрых бабочек наряд…
Червяк и тот нас слушать рад.
Червяк и тот нас слушать рад.
Чистые, ясные звуки летели над водой. Двое рыбаков, ставившие перемет, замешкались, вслушиваясь в песню.
— Браво! — кричал старый Стилле с пристани.
— Н-да, недурно, Ловен, — только вот это «червяк и тот нас слушать рад»… Это скорей по части Филипа. Однако же — здравствуйте, здравствуйте! Здравствуй, старый плут, коньячишко-то найдется? Виски мы захватили с собой. Здравствуйте, прелестная, милая, очаровательная м-м-м, — каждую любезность барон сопровождал изящным воздушным поцелуем, — фрекен Лидия! Здравствуйте, юноши!
Барон Фройтигер был загорел, обветрен, всем своим обликом наводил на мысль о разбойниках, какими их представляют на театре, и носил черную бородку Навуходоносора. Ему совсем недолго оставалось до пятидесяти, но он сохранял моложавость благодаря легкому взгляду на жизнь. Скорби и заботы не задевали его. Жизнь его, однако же, была полна немыслимых перипетий, и он любил повторять, что самые скверные минуты пережил, ожидая повешенья за конокрадство в Аризоне. И точно, в молодости он был несчастьем семьи и пытал удачу по всему свету. Он отличился во многих искусствах: выпустил путевые заметки и милой, изящной ложью составил себе литературное имя, а еще сочинял вальсы, и их танцевали на придворных балах. Получив несколько лет назад наследство, он купил небольшое именье в шхерах и под видом занятий земледелием охотился за морскими птицами и молодыми девушками. Правда, и политические интересы были ему не вполне чужды. На последних выборах он выставлялся кандидатом в риксдаг от либеральной партии и непременно прошел бы, прояви он большую твердость в вопросе о вреде алкоголя.