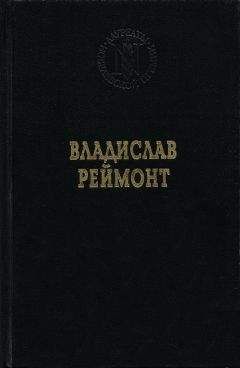Нинины волосы в свете лампы отливали золотом, прозрачная, нежная кожа была словно из розового, подсвеченного изнутри фарфора; ее зеленые глаза с золотыми искорками были устремлены на Высоцкую. Анка, в венце темных пушистых волос, менялась в лице, не в силах скрыть досаду. Со страстной убежденностью отражала она атаки Высоцкой, подаваясь при этом вперед и сдвигая густые черные брови, походившие на натянутый лук. Подвижное лицо, как зеркало, отражало движения ее души. Она всем своим добрым сердцем была на стороне евреев, и это помогало ей опровергать рассудочные доводы Высоцкой. А та, сидя напротив в глубоком кресле, говорила безапелляционным тоном и в пылу спора наклонялась над столом, и тогда в кругу света, отбрасываемого лампой, видно было ее лицо, которое хранило следы былой красоты.
— Пан Мечислав, помогите мне защитить евреев и, в частности, панну Грюншпан. Кароль отказался, сказав, что она в этом не нуждается.
— Я с ним совершенно согласен. Меля… панна Грюншпан не нуждается в защите. Это так же нелепо, как защищать солнце от упреков в том, что оно слишком сильно светит и греет.
Завязался общий разговор, который был прерван приходом Юзека Яскульского.
Плача и заикаясь, Юзек сказал, что пани Баум очень плоха. Макс послал его за Высоцким, и он искал его по всему городу.
— Сейчас иду! Спокойной ночи, господа!
— Мне тоже пора, — сказала Нина.
— Я вас провожу, — вызвалась Анка, — уж больно вечер хорош. Пан Кароль, вы пойдете с нами?
Кароль поклонился в знак согласия, хотя был не в восторге от этого предложения, так как ему хотелось спать.
— A propos[55], о панне Грюншпан, — сказал доктор, уже в пальто стоя в дверях столовой, — будьте к ней снисходительней, хотя бы потому, что это моя будущая жена.
Высоцкая привскочила с места, но доктора уже не было: он поспешил к больной.
* * *
Когда Макс, вызванный Юзеком от Травинских, прибежал домой, мать поминутно теряла сознание.
Большая комната, освещенная последними закатными лучами, была погружена в красноватые сумерки; лицо умирающей, обращенное к далекому бездонному небу, застыло и покрылось синевой.
Она судорожно сжимала в руке свечу, которая отбрасывала слабый желтоватый свет на ее отрешенное лицо, покрытое каплями предсмертного пота.
У ее изголовья стояла на коленях фрау Аугуста и вполголоса читала молитву.
Старик Баум с застывшим лицом сидел в изножье кровати и горящими от невыплаканных слез глазами неотрывно смотрел на жену; ни один мускул не дрогнул у него на лице, ни одна слеза не выкатилась из-под покрасневших век. Внешне он был спокоен, но с такой силой вцепился в поручни кресла, что в твердом дереве остались следы от ногтей. Когда вошел Макс, он перевел взгляд на сына и смотрел, как тот бросился к матери и опустился около кровати на колени.
— Мама, мама! — в испуге вскричал Макс, дотрагиваясь до сжимавшей свечу руки.
Умирающая дышала прерывисто, надсадно. В остекленелых глазах навыкате, как на водной глади, отражались лучи заходящего солнца; правой рукой она шарила по одеялу, словно искала недовязанный чулок, который лежал на полу, поблескивая стальными спицами, точно еж.
Кухарка вместе с другой прислугой, стоявшая в темной комнате на коленях, громко заплакала.
— Мама! — со стоном вырвалось у него, сердце пронзила невыразимая печаль, и он заплакал.
Больная пришла как будто в себя: повернув голову, устремила на сына стекленеющий взгляд и, выронив свечу, холодной ладонью накрыла руку сына и не выпускала ее. Как последний отблеск радости, показалась улыбка на ее синих губах, она пошевелила ими, но с них слетел лишь слабый хриплый звук.
Улыбка сбежала с лица, она отвернулась к окну и замерла, словно засмотревшись подернутыми пеленой смерти глазами на закат, который расплавленной медью угасал в вечернем сером небе.
Набежавший ветерок пригнул к окну сирень, и ее фиолетовые очи-цветы глядели на неподвижное, стынущее лицо умирающей с бессильно отвисшей челюстью.
Хотя Макс понимал, что все кончено, он тотчас послал за Высоцким и поджидал его с растущим нетерпением, поминутно бросая тревожные взгляды на мать. Жизнь еще теплилась в ней, но то была уже рефлекторная жизнь; время от времени из груди ее вырывался тихий стон, она шевелила губами, теребила коченеющими пальцами одеяло, а потом лежала неподвижно, уставясь широко открытыми глазами в надвигавшуюся ночь, в непроглядный мрак смерти.
Наконец пришел Высоцкий, и следом за ним — Боровецкий. Пришел, чтобы констатировать, что она за минуту перед тем скончалась.
Макс плакал, как ребенок, уткнувшись лицом в одеяло.
Старик Баум тяжело встал и, наклонясь над покойницей, дотронулся до ее холодных рук и висков, в последний раз заглянул в открытые глаза, словно с изумлением устремленные в таинственную бездну вечности, закрыл их дрожащими пальцами, потом медленно направился к двери, на каждом шагу останавливаясь и оборачиваясь назад.
В пустой неосвещенной конторе он опустился на сваленные в кучу платки и долго сидел неподвижно, ни о чем не думая.
Когда он очнулся, была уже глубокая ночь, на небосводе серебристыми росяными каплями сверкали звезды, город спал, объятый тишиной, только откуда-то с окраины доносились звуки гармошки.
Он встал и медленно прошелся по затихшему, погруженному во мрак дому.
На складе при свете газового рожка на тюках готовых изделий спал Юзек. Он не стал будить его и, миновав несколько пустых комнат, от которых веяло безмолвием смерти, прошел в столовую. Там, как был у Травинских во фраке и белом галстуке, прикорнул на кушетке Макс.
В нерешительности остановился старик перед жениной спальней, но сделав над собой усилие, открыл дверь.
На выдвинутой на середину комнаты кровати лежала покойница, покрытая простыней, под которой проступали контуры ее лица.
На столе горело несколько восковых свечей, несколько работниц читали молитвы по усопшей.
С кошками на коленях дремала на кушетке опухшая от слез фрау Аугуста.
Ветер парусом надувал шторы на окнах и колебал занавески.
Долго смотрел Баум на представшую его взору картину, словно хотел навсегда запечатлеть ее в памяти, а может, до конца не осознал еще смысла происшедшего, ибо, пройдя к себе в комнату, взял керосиновую лампу и, как часто в последнее время, когда ему не спалось, отправился на фабрику.
Огромными каменными глыбами чернели притихшие корпуса. Луны на небе уже не было, только сквозь предрассветную мглу слабо мерцали звезды, словно изнемогши в единоборстве ночи с днем, который уже зарождался в беспредельных просторах Востока.
В черном колодце двора гулко отдавался лай и завывание собак, которых забыли спустить с цепи.
Ничего не слыша, шел он темными длинными, как тоннели, коридорами, в которых неприятно пахло затхлостью. И эхо повторяло звук его шагов в тиши пустых помещений.
Двигаясь как автомат, переходил он из одного цеха в другой.
Повсюду царила мертвая, гнетущая тишина, по обе стороны прохода согбенными скелетами стояли ткацкие станки, со шкивов, как вытянутые жилы, свешивались покрытые паутиной приводные ремни; набивочные полосы болтались, точно старческая, сморщенная кожа.
— Умерла, — прошептал он, прислушиваясь к тишине и глядя на уходящие вдаль ряды станков. — Умерла, — повторял он время от времени, и непонятно, относилось это к жене или к фабрике. И бормоча так, переходил он из цеха в цех, из корпуса в корпус, с этажа на этаж.
* * *
Высоцкий и Боровецкий в подавленном настроении покинули дом Баумов.
— Жалко Макса. Он горячо любил мать, и ее смерть надолго выбьет его из колеи. И как раз теперь, когда он просто незаменим при сборке машин. Не везет мне!.. Все идет шиворот-навыворот! — со злостью сказал Боровецкий.
— Панна Анка скоро переберется в город?
— Через неделю.
— А свадьба когда?
— Мне сейчас не до того! Сначала нужно вдохнуть жизнь в это чудовище и заставить его работать. Вот когда пущу в ход фабрику, а это будет не раньше октября, тогда можно будет подумать и о свадьбе.
Дальше они шли молча и на Пиотрковской неожиданно встретили Морица.
— Ты когда приехал? Давайте зайдем куда-нибудь выпить кофе.
— Только что, и шел домой. Но от кофе не откажусь.
— У Макса умерла мать. Мы от него.
— Умерла?! Это очень неприятно, — Он передернулся. — Что нового в городе?
— Ничего! А впрочем, не знаю. Я целыми днями торчу на фабрике. Гросглик обрадуется твоему приезду. Он сегодня справлялся о тебе.
— Не очень-то он обрадуется, — буркнул Мориц и, дрожащими пальцами нацепив на нос пенсне, искоса посмотрел на Кароля.
В гостинице, куда они отправились пить кофе, в этот час было совершенно безлюдно. Только в садике, разбитом посреди двора, за столиком сидели Мышковский и Муррей.