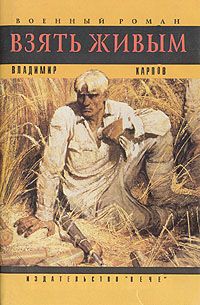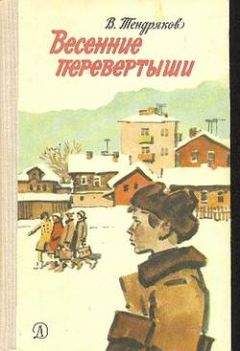них было темновато. Свет попадал сюда лишь через стеклянные двери спальни. Услышав звонок, по которому Дора узнала — муж, сразу зажгла электричество. В желтоватом свете, не таком ярком, как ночью, лицо Димина выглядело осунувшимся. Но, заметив это, Дора не подала виду. Она повесила в шкаф его шляпу, галстук и, пройдя за ним в ванную, посоветовала:
— Ты вымойся, Петя, до пояса. Как бывало.
Димин охотно снял рубашку, соколку и, фыркая, стал умываться. Потом наклонился над ванной и попросил полить на шею и спину. Холодная вода освежила его. Покрякивая, фыркая и охая, он начал рассказывать:
— Прокопа Свирина твоего утвердили… У-ух! Хотя и устроили головомойку. Да не бойся: лей, лей… Ух ты!.. Даже жалко его стало, такого смирненького, причесанного… Левей, левей, на лопатку…
Она знала и эту привычку мужа — рассказывать обо всем, что делал, видел и слышал за день. Знала, любила и привыкла к ней.
— А ты, наверно, защищал?
— Нет, как-то неловко было. К тому же барабан этот…
— Зря. Быть собою вряд ли когда-нибудь стыдно.
— Ты мне лучше скажи, чего они от меня хотят. У-ух! Директор и тот с час поучал… Довольно!
Димин вытерся лохматым ручником, оделся, причесался и, порозовевший, с мокрыми волосами, приобретшими синеватый отлив, прошел в столовую. Но на душе посветлело не до конца. В воображении как упрек стояла неуклюжая громадина царь-барабан. На нем, как смутно догадывался Димин, скрестилось многое, и в первую очередь — нахрапистость Кашина и непонятная, но не без задней мысли, пассивность главного инженера.
— Он посоветовал мне забыть сегодняшний случай, не придавать ему значения,— заговорил вновь Димин, шагая вокруг стола и поправляя стулья.
— Да ты сядь, сядь,— попросила Дора.— Кто он?
— Директор. Говорит, что шумиха, если поднять ее, вызовет нежелательный резонанс. Подорвет идею рационализации, авторитет Кашина, а рикошетом и Сосновского. Ибо ничто так не раздражает рабочих, как техническая бестолковщина инженеров. А барабан, если не считать бригады монтажников, по сути дела не стоил ни копейки.
— И ты веришь ему? Всерьез?..— осторожно спросила Дора, но, заметив, как болезненно передернулось лицо мужа, не договорила до конца.
— Иногда приходится учитывать высшие соображения!
— Возможно…— все же снова начала она.— Но в твоей работе независимость, по-моему, прежде всего. Да, да! Иначе ты, как руководитель партийной организации, очутишься в тенетах. Ни объективным, ни требовательным уже не будешь. В совете директора — ведомственщина.
— Вечно ты со своим недоверием… И прошу, не делай мне, пожалуйста, замечаний при других!..
Взбивая на ходу пышную прическу, вошла Рая — в пижаме, худенькая, стройная.
Они обычно не спорили при дочери и замолчали.
— Опять чего-нибудь не поделили? — равнодушно спросила Рая, направляясь к буфету.— Мама не может без этого.
— Почему из института никакой бумажки нет? Или ты ее спрятала? — сказал Димин, обращая свое раздражение на дочь.
Разыскивая что-то в буфете, та спокойно ответила:
— Я забрала документы из медицинского тоже. Я собиралась сказать вам…
— Взяла? Почему? — остолбенел Димин, в суматохе последних дней вовсе забывший о домашних делах.
— У меня опять была тройка — по химии. Так что ждать — артель «Напрасный труд». Зачем мне это? Я не такая!
— И что же ты сейчас надумала? — подавленно спросила Дора, не осмеливаясь взглянуть на мужа.
— Буду готовиться. Меня ведь на будущий год в армию не возьмут.
— Да ты представляешь, что такое год?
— Триста шестьдесят пять дней, если не високосный.
— Я для человека спрашиваю?
— То же самое, кажется.
Рая взяла в буфете вафлю, вызывающе взглянула на ошеломленного отца, растерянную мать и независимо вышла из столовой, будто здесь ей нечего было делать.
— А интересно, что, по-вашему, мне сейчас вешаться, что ли? — крикнула она из коридора.
Доре вдруг стало жаль дочь, и еще более — мужа. Она обняла его за плечи, усадила в кресло и пристроилась на подлокотнике.
— Чего ты? Успеет еще — и научится и наработается. Пусть отдохнет, подумает. Так, может быть, скорее найдет себя,— сказала она.— Мы с тобой не знали такого. А разве это хорошо? Всё торопились, торопились. Ни времени, ни суток не хватало. Всегда все горело. Учились и работали, а теперь работаем и учимся. Несем десятки нагрузок… Мне иногда, вообще, приходит на ум, не слишком ли мы перегружаем людей? Взваливаем на них ношу с дошкольного возраста и каждый год добавляем по пуду. Не много ли?
— Один доктор в нашей поликлинике дальше тебя пошел,— снова вспылил Димин, понимая, что это говорится не только, чтобы успокоить его.— Знаешь, с бородкой?
— Встречала.,
— Он, вообще, во имя здоровья требует запретить перевыполнять план.
— А что ты думаешь?! — встрепенулась Дора, будто слова мужа обрадовали ее.— Продуктивность должна расти за счет техники. А помнишь последние дни июля? Жару? В формовочном и термообрубном выработка на десять процентов упала. Ты думал об этом, секретарь?
— Не обобщай, пожалуйста.
Довольная, что муж забывал о Рае, Дора, однако, возразила:
— И все-таки перегрузка! А отсюда — усталость. Поговори с библиотекаршей, спроси, какие книги берут. Выберите, просят, такую, чтобы отдохнуть.
— Значит, чем меньше отдашь, тем больше себе останется?
— Потому и отрыгается…
— Ради бога, воздержись хоть эти свои открытия проповедовать.
— Какой нынче из меня проповедник,— слабо усмехнулась Дора.— Трибуна моя дома стоит, да и организатор я больше в столовой. Пошли кушать.
— Есть, хочешь сказать!
— Ну, есть…
Назавтра, выйдя из дому, Димин отпустил машину и отправился в комитет пешком. История с барабаном, разговор с женой, провал дочери на экзаменах не выходили из головы. И самым неприятным было, что никакого решения не находилось.
Это раздражало. Особенно Дора, которая до сих пор, несмотря на все его старания, даже за свою самостоятельность боролась не очень охотно. Военное прошлое лежало на ней грузом — слишком много довелось видеть крови, смертей! И под их бременем она почти изнывала, не стараясь искать выхода.
Как-то сразу после войны к ней, прямо на квартиру, заявился муж одной предательницы, которую Дора хитростью выманила из гетто и привела в лес на партизанский суд. В военной форме, с нашивками, свидетельствующими о ранениях, с тростью в руке, худой, бледный, он и на Димина произвел тягостное впечатление. Оно усиливалось еще тем, что пришедший смотрел на Дору как на диво,