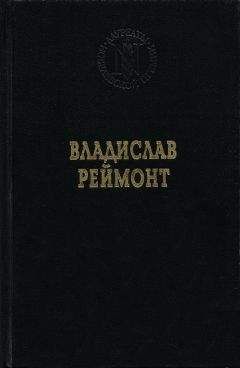Только на Пиотрковской удалось остановить дрожки, Боровецкий приказал поскорей ехать к отелю.
— Да, телеграмма! — воскликнул он, внезапно вспомнив о ней, и при свете фонаря прочитал ее еще раз. — Эй, поверни-ка обратно и езжай по Пиотрковской прямо.
«Возможно, он уже дома», — подумал он о Морице, и лихорадочный жар снова охватил его.
Приказав кучеру на всякий случай подождать у дома, он торопливо позвонил у входа.
Никто не открывал, и это так разозлило Боровецкого, что он оборвал звонок и стал изо всех сил стучать в дверь. Наконец, очень не скоро, Матеуш отворил.
— Пан Мориц дома?
— Как пошел на шабаш, так, верно, евреи не отпустили. Что? Говорите, пан Мориц?
— Пан Мориц дома? Отвечай же! — в бешенстве закричал Боровецкий.
Матеуш, совершенно пьяный, шел за ним со свечой в руке, в одном белье, с заплывшими глазами; все лицо его было в пятнах запекшейся крови и в синяках.
— Пан Мориц, спрашиваете? Ага, понимаю, пан Мориц!
— Скотина! — воскликнул Боровецкий и с размаху ударил его по лицу.
Матеуш покачнулся назад и стукнулся головой о входную дверь.
Морица не было, в столовой на широкой оттоманке спал Баум, одетый и с папиросой в зубах.
На столе, на полу, на буфете стояло множество порожних бутылок и тарелок, а труба самовара была обвита длинной зеленой вуалью.
— Ого, видно, Антка была, славно повеселились. Макс, Макс! — закричал Боровецкий, расталкивая спящего.
Макс и бровью не повел, продолжая громко храпеть.
Наконец, видя, что его усилия тщетны, Боровецкий, которому надо было выяснить, где Мориц, разъярился, схватил Макса за плечи, приподнял и поставил на пол.
Макс, раздраженный тем, что его будят, повалился на стул, потом схватил этот стул и швырнул его на стол.
— Эй ты, обезьяна зеленая, не смей будить! — рявкнул он, затем наиспокойнейшим образом опять улегся на оттоманку, стянул с себя сюртук и, накрыв им голову, продолжал спать.
— Матеуш! — чуть не в отчаянии позвал Кароль, убедившись, что Макса разбудить не удастся.
— Матеуш! — крикнул он еще раз, направляясь в переднюю.
— Иду, пан инженер, бегу, только вот свеча куда-то подевалась, все ищу ее, ищу, сейчас иду, — отвечал тот хриплым пьяным голосом, будто сквозь сон, пытаясь подняться с полу у порога, где он после оплеухи Боровецкого сразу уснул.
С трудом встав на четвереньки, Матеуш опять рухнул ничком и, точно пловец, замахал руками.
Боровецкий поднял его, повел в столовую, прислонил к печке и стал спрашивать:
— Где ты напился? Сколько раз я тебе говорил, если напьешься, прогоню к чертям. Ты слышишь, что я говорю?
— Слышу, пан инженер, слышу, ага, вроде это пан Мориц, — бормотал Матеуш, тщетно пытаясь обрести равновесие.
— Кто тебе морду расквасил? На свинью похож.
— Кто мне морду расквасил? Мне-то, эээ… нет, пан инженер, никто не расквасил, мне никто морду не может расквасить, я бы, эээ… пан инженер, тому кости переломал, в морду дал, и конец, капут, чистая работа, эээ, черт!
Видя, что с пьяным не договоришься, Боровецкий принес графин с водой и вылил всю воду Матеушу на голову.
Матеуш вертелся, вырывался, но немного протрезвел и, утирая рукавами посиневшее, в кровоподтеках лицо, тупо захлопал веками.
— Пан Мориц был дома? — терпеливо продолжал допрос Боровецкий.
— Был.
— А куда поехал?
— А он вроде ту чернявую, маленькую отвозил и хотел поехать в «Гранд».
Это означало в «Гранд-Отель».
— Кто здесь был?
— Всякие господа были, был пан Бейн, пан Герц и еще другие евреи. Я с Агатой, что у пана инженера служит, готовил ужин.
— И напился как последняя свинья. И кто же тебя так избил?
— Никто меня не бил.
Матеуш безотчетно ощупал себе лицо и голову и застонал от боли.
— Так откуда же у тебя эти ссадины на голове?
— Да это… или как… Был и пан Мориц, и та чернявая обезьяна, и горбатый, и евреи…
— Отвечай сейчас же, где ты напился и кто тебя побил? — в бешенстве закричал Боровецкий.
— Не пьяный я, и никто меня не побил. Пошел я за пивом для господ, а в кабаке были приятели, что у французов служат, поставили пива. Нашего, самого лучшего! Поставил и я. Они поставили раз, и я раз. Потом пришли люди из нашей белильни, добрые поляки, из моего края, поставили и они пива — хорошего, нашего, поставил и я. Они добрые поляки, и я добрый поляк, они ставят наше лучшее, и я ставлю. Только я не пьяный, эээ… пан инженер, Христом Богом клянусь, трезвый я, ежели вы, пан инженер, хотите, я дыхну, вот проверьте.
Он наклонился и с закрытыми глазами, цепляясь руками за печку, принялся дышать во все стороны.
Боровецкий уже переодевался в своей комнате и не слушал его, но Матеуш все равно продолжал говорить.
— А потом пришли веберы[9] старика Баума да сукновалы. Пили с нами — мы-то ставили, а немцы, подлый они народ, не хотели ставить. Так я одного чуток пальцем ткнул, он бац наземь, а другой меня кружкой по голове. Тогда я и другого чуток пальцем тронул, и он тоже бац наземь, тут немцы меня за лацканы. Я-то не дрался, я знаю, пан инженер этого не любит. А я своего хозяина слушаюсь, вот я и не дрался, только когда меня один ухватил за волосы, другой за лацканы, а третий хряснул по морде, то я и подумал — жаль ведь куртки, что пан инженер мне подарил, и говорю по-хорошему: пустите меня, а он меня ножом под ребра, тогда я его башкой об стену, так он там и остался. Тут еще приятели помогли, и — готово, чистая работа. Я-то не дрался, только малость пальцем тронул, цыпленок бы не упал, а тут такенный кабан плюхнулся. Слабы они на ноги, немцы эти, пан инженер, совсем слабы. Я только малость пальцем тронул, а он уже готов, на полу!..
Матеуш бормотал все более сонным голосом и, вытянув вперед руку, показывал, как он чуток тыкал пальцем.
— Иди спать! — крикнул Боровецкий, погасил свет и, отведя Матеуша в кухню, поехал искать Морица.
В «Виктории» все было закрыто, в «Гранд-Отеле» тоже.
— Пан Куровский спит? — спросил он у номерного.
— А его сегодня вообще не было, номер ему приготовили, а он не приехал.
— А пан Вельт был у вас вчера вечером?
— Был, с дамами и с паном Коном, потом они в «Аркадию» поехали.
Боровецкий поехал на Константиновскую в «Аркадию», но и там уже никого не застал.
Побывал он еще в нескольких заведениях, где обычно развлекалась лодзинская молодежь, но Куровского нигде не обнаружил.
«Куда эта обезьяна подевалась?» — с досадой подумал Боровецкий и вдруг крикнул вознице:
— Езжай в пивную. Знаешь, где это? Если там его нет, то мне его не найти.
— Вмиг там будем!
И извозчик что было силы стегнул лошадь, которая плелась еле-еле, спотыкаясь на всех ямах и ухабах; теперь дрожки подпрыгивали и раскачивались по неровной мостовой, будто челн на волнах морских.
Боровецкий бранился, стискивал зубы и, чтобы унять взбудораженные нервы, разыгравшиеся так, что он не мог папиросу зажечь, они все ломались у него в руках, заставлял себя думать об истории с пошлиной на хлопок.
«Видно, Бауэр за хорошую цену продал телеграмму Цукеру. Да, странная женщина!» — перескочил он мыслями к воспоминаниям о Люции и целиком в них погрузился.
Он был знаком с нею два года, но не обращал на нее внимания, так как был занят романом с пани Ликерт, к тому же о пани Цукер говорили, что она невероятна глупа, почти столь же глупа, сколь хороша собой.
— Какой темперамент! — шептал он, вздрагивая при одном воспоминании.
Ему давно было известно, что она обратила на него внимание, — она давала это почувствовать своими взглядами, настойчивыми приглашениями, которыми он ни разу не воспользовался. Она бывала везде, где могла его встретить.
В лодзинских сплетнях, которыми так самозабвенно и с большим искусством занимаются преимущественно мужчины и которыми полнятся конторы и фабрики, уже начинали появляться какие-то намеки и догадки, но они быстро прекратились, так как Боровецкий держался с Люцией очень отчужденно и вообще в последние месяцы был поглощен планами открытия фабрики.
Он хорошо знал Цукера, этого старого еврея, который превратился за последние десять лет в фабриканта-миллионера, а начинал свою карьеру в Лодзи с того, что скупал ненужные фабрикам хлопчатобумажные отходы, тряпки, старую бумагу, хлопковую пыль, всегда в обилии остающуюся при производстве тканей и в стригальнях.
Боровецкий презирал Цукера за то, что он, грубо подражая узорам и краскам фирмы Бухольца, выпускал продукцию самого дрянного качества и продавал ее так дешево, что не имел конкурентов.
Каролю было известно, что у пани Цукер нет любовника, — во-первых, потому что она еврейка, а во-вторых, потому что в таком городе, как Лодзь, где все, начиная с миллионеров и кончая последним винтиком в гигантской производственной машине, должны трудиться, должны целиком отдаваться работе, было поразительно мало истинных донжуанов и мало возможностей для того, чтобы соблазнять и покорять женщин.