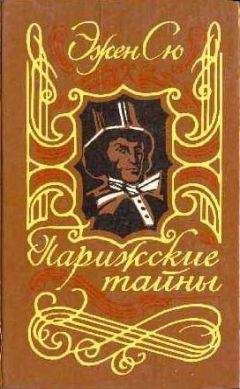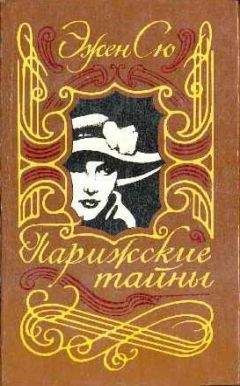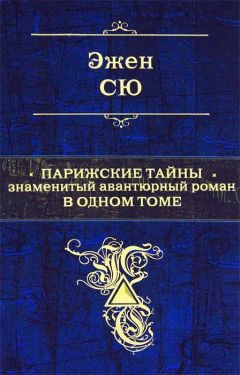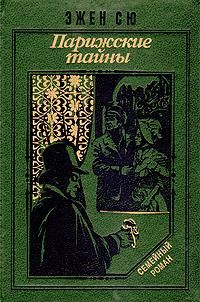— И порой вам хочется умереть?
— Да, порой, — ответила Певунья с горькой улыбкой. Немного помолчав, она добавила: — Только порой, иногда…
— Однако вы боялись, что эта отвратительная женщина изуродует вас, значит, вы дорожите своей красотой, бедная девочка? Это значит, что жизнь вас еще привлекает. А потому не отчаивайтесь, будьте храброй!
— Может быть, это слабости с моей стороны, но, если бы я была красива, как вы говорите, я бы хотела умереть красивой, произнося имя моего благодетеля…
Глаза маркизы наполнились слезами.
Лилия-Мария произнесла последние слова так просто, ее ангельское лицо, бледное и удрученное, ее несмелая улыбка так соответствовали этим словам, что нельзя было усомниться в искренности ее печального пожелания.
Маркиза д’Арвиль обладала достаточной тонкостью, чтобы не почувствовать нечто неотвратимое и роковое в мыслях Певуньи:
«Я никогда не забуду, кем я была…»
Навязчивая идея, неизгладимые воспоминания беспрестанно угнетали и терзали Лилию-Марию.
Клеманс устыдилась, что могла хоть минуту сомневаться в бескорыстном великодушии принца и поддалась нелепой ревности к несчастной Певунье, которая так искренне и наивно выражала признательность своему благодетелю.
Странная вещь: нескрываемое восхищение этой бедной узницы Родольфом как бы усилило глубокую любовь Клеманс, которую она должна была всегда скрывать.
Чтобы избавиться от этих мыслей, она спросила:
— Надеюсь, в будущем вы не станете судить себя так строго? Но вернемся к вашей клятве: теперь я понимаю ваше молчание. Вы не хотели выдавать этих негодяев?
— Хотя Грамотей и помогал при моем похищении, он дважды защитил меня… Я не хотела быть неблагодарной.
— И вы согласились стать соучастницей этих чудовищ?
— Да, сударыня… Я так испугалась! Сычиха сходила за Красноруким, он отвел меня к полицейскому участку и сказал, что я прогуливалась перед его кабаком; я ничего не отрицала, меня арестовали и привели сюда.
— Но ведь ваши друзья на ферме, наверное, с ума сходят от беспокойства!
— Увы, сударыня, я сначала была так напугана, что не подумала о том, что эта клятва помешает мне их успокоить… Сейчас я об этом сожалею… Но сейчас, — не правда ли? — я могу, не нарушая слова, попросить вас написать госпоже Жорж на ферму Букеваль, чтобы она за меня не тревожилась, не говоря при этом, где я, ибо я обещала об этом молчать…
— Дитя мое, все эти предосторожности станут излишними, если по моей просьбе вас помилуют и отпустят? Завтра вы вернетесь на ферму, не нарушив вашей клятвы. А позднее вы посоветуетесь с вашим благодетелем, обязаны ли вы выполнять обещание, вырванное у вас угрозами.
— Вы полагаете, что… благодаря вашей доброте я смогу скоро выйти отсюда?
— Вы этого заслуживаете, и я уверена, мне удастся вам помочь, и послезавтра вы сможете сами успокоить ваших благодетелей.
— Ах, сударыня, чем я заслужила столько милостей? Как вас благодарить?
— Продолжайте вести себя так же достойно, как сейчас… Мне только жаль, что я не смогу позаботиться о вашем будущем — это счастье принадлежит вашим друзьям…
Внезапно вошла г-жа Арман с огорченным лицом.
— Госпожа маркиза, — сказала она неуверенно, — мне очень жаль, но я обязана известить вас…
— Что вы хотите сказать?
— Вас ждет внизу герцог де Люсене… Он только что от вас.
— Господи, вы меня пугаете! Что случилось?
— Я не знаю, сударыня, но господин де Люсене должен сообщить вам, как он говорит, нечто печальное и неожиданное. Он узнал от госпожи герцогини, своей супруги, что вы находитесь здесь, и поспешил сюда…
— Печальное и неожиданное? — повторила про себя г-жа д’Арвиль. И вдруг закричала в отчаянии: — Моя дочь? Моя дочь… Не может быть! Скажите все, прошу вас!
— Я ничего не знаю, сударыня.
— О, сжальтесь, сжальтесь! Отведите меня скорее к герцогу! — воскликнула г-жа д’Арвиль, устремившись к дверям, и г-жа Арман последовала за ней.
— Несчастная мать! — прошептала Певунья, провожая ее взглядом. — О нет, это невозможно!.. Неужели ее постиг такой страшный удар, как раз когда она проявила ко мне столько доброты? Нет, и еще раз нет, — это невозможно!
А теперь мы поведем читателя в дом на улице Тампль: происходит это в день самоубийства г-на д’Арвиля, в три часа пополудни.
Господин Пипле — один у себя в швейцарской: добросовестный и неутомимый труженик, он старательно чинит сапог, который, увы, не раз и не два уже падал на пол, и все это — из-за последней и самой наглой выходки Кабриона.
Физиономия у высоконравственного привратника крайне унылая и еще более печальная, нежели обычно.
Как солдат, который чувствует себя униженным из-за понесенного поражения и грустно проводит рукой по едва затянувшейся ране, г-н Пипле время от времени испускает тяжкий вздох, прекращает работу и проводит дрожащим пальцем вдоль поперечной вмятины: ее оставила на цилиндре — предмете гордости привратника — нахальная рука Кабриона.
И тогда все горести, все тревоги, все опасения Альфреда Пипле пробуждаются с новой силой, и он начинает размышлять о постоянных и просто немыслимых преследованиях, которым подвергает его этот бездарный художник, этот мазила.
Господин Пипле не обладал ни широким кругозором, ни глубоким умом, он не был одарен ни живым воображением, ни поэтическим складом души, но зато он обладал здравым смыслом и отличался весьма солидным и логическим, хотя и несколько прямолинейным рассудком.
На свою беду, в силу природной склонности к слишком уж прямолинейным суждениям, он не мог постичь эксцентрических и сумасбродных выходок, которые на языке живописцев именуются шаржами. Г-н Пипле силился обнаружить разумные, мыслимые причины невыносимого поведения Кабриона и потому задавал себе множество неразрешимых вопросов.
Порою он, как новый Паскаль, испытывал головокружение, пытаясь проникнуть умственным взором в ту бездонную пропасть, которую адский дух художника вырыл у него, Альфреда Пипле, под ногами.
Не один раз, уязвленный в своих лучших чувствах, злополучный привратник старался взять себя в руки — к этому его побуждал непоколебимый скепсис г-жи Пипле: она считалась с одними лишь фактами и с пренебрежением отвергала все его попытки углубиться в их скрытые причины; Анастази грубо утверждала, будто необъяснимое поведение Кабриона по отношению к ее мужу — всего лишь глупая шутка!
Господин Пипле, человек рассудительный и серьезный, не мог принять подобное толкование, но только жалобно стонал, видя слепоту своей жены; его мужское достоинство восставало при одной мысли, что он мог стать игрушкой, жертвой столь пошлой затеи: фарса… Он был глубоко убежден, что неслыханное поведение Кабриона было связано с каким-то тайным и темным заговором, а наружное легкомыслие живописца служило лишь покровом для всех этих козней.
Мы уже сказали, что, стремясь разгадать сию зловещую тайну, человек, столь гордившийся своим цилиндром, вновь и вновь прибегал к присущей ему железной логике.
— Я готов дать голову на отсечение, — бормотал этот суровый муж, ставивший перед собою все новые и новые вопросы, — я готов дать голову на отсечение, но никогда не соглашусь с тем, будто Кабрион столь яростно и упорно преследует меня из одного только желания просто-напросто подшутить надо мною: ведь шутки шутят «на публику». А в последний раз этот зловредный субъект действовал без свидетелей, действовал в одиночку и, как всегда, под покровом тьмы; он тайком забрался в мою скромную обитель и запечатлел у меня на лбу свой отвратительный поцелуй. И вот я спрашиваю любого беспристрастного человека: «С какой целью он это сделал?» Нет, то была не просто бравада… ведь никто ничего не видел, не совершил он этого и ради удовольствия… законы природы тому противоречат; совершил он это и не из дружбы… ибо на всем свете у меня есть лишь один враг, а именно: он. Стало быть, нужно признать, что здесь таится какая-то тайна, и мой разум не в силах проникнуть в нее! Но тогда, к чему ведет его дьявольский план, который он уже давно взлелеял и проводит в жизнь с упорством, какое меня пугает! Так вот, всего этого я никак понять не могу, а невозможность сорвать покров тайны изнуряет и подтачивает меня изнутри!
Вот во власти каких тягостных раздумий пребывал г-н Пипле в ту минуту, когда мы представляем его читателю.
Достопочтенный привратник только бередил свои кровоточащие раны, печально проводя рукой по вмятине на своем цилиндре, когда чей-то пронзительный голос, доносившийся откуда-то с верхних этажей, произнес следующие слова, гулко прозвучавшие в лестничной клетке:
— Скорей! Скорей, господин Пипле! Поднимитесь наверх… И не мешкая!