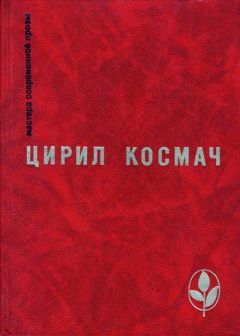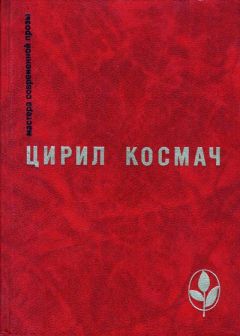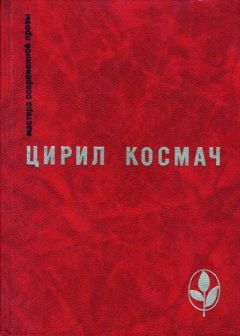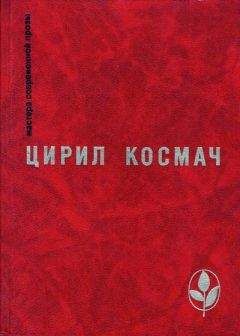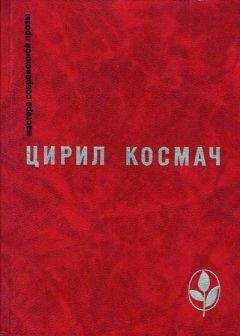Люди догоняли и обгоняли его и ласково все здоровались:
— Доброе утро, Тантадруй! Ты еще не умер?
— Тантадруй, еще нет! — радостно подскакивал дурачок. — Но я скоро. Смерть уже есть у меня, и эта будет настоящей!
— В самом деле? — удивлялись крестьяне. — Как же ты умрешь?
— Тантадруй, этого я не скажу! — с таинственным видом отговаривался он.
— Отчего же?
— Тантадруй, я сперва должен рассказать господину жупнику.
— Да, да! — понимающе соглашались крестьяне, а потом приветливо спрашивали: — А как Елчица? Она тебя еще любит!
— Тантадруй, еще любит! — укоризненно повторил дурачок. — Когда она тоже умрет, я на ней женюсь!
— Ты на ней женишься?
— Тантадруй, я на ней женюсь, и мы оба будем счастливы!
— Но ведь вы на небо пойдете?
— Тантадруй, на небо мы не пойдем, а счастливыми будем!
— Да, да! — Крестьяне ускоряли шаг.
— Тантадруй, а что ж вы о колокольцах не спрашиваете? — пускался вдогонку дурачок, и громкий звон оглашал ясное утро.
— А ведь верно! — Люди приостанавливались. — Сколько ты их уже собрал?
— Тантадруй, Елчица пересчитала и говорит, что всего трех не хватает, — весело отвечал он.
— А почему трех?
— Тантадруй, Елчица сказала, каждому мученику будет по одному, если я наберу сорок.
— Вот оно что! Так ты их отдашь мученикам?
— Тантадруй, мученикам. Елчица говорит, что они все равны и будет очень красиво, когда они встанут в ряд и разом зазвонят.
— О, в самом деле красиво будет! — соглашались крестьяне и вновь торопились вперед.
— Тантадруй, а те три, что еще не хватает, я на ярмарке прикуплю! — спешил за людьми дурачок. — Ведь их продают?
— Продадут, если у тебя деньги найдутся.
— Найдутся, тантадруй! — И снова все кругом радостно звенело.
— На, возьми еще монетку, получше сторгуешь, — отвечали крестьяне и совали мелочь.
— Я сторгую, тантадруй, обязательно сторгую. А потом поскорей к жупнику!
— Ясное дело, потом к жупнику!
— Тантадруй, а потом я умру! Я так хочу умереть!
— Ты умрешь! Умрешь! — соглашались люди и теперь уже решительно ускоряли шаг, утирая слезы, которые от стужи выступали у них на глазах.
Тантадруй не поспевал за ними, ведь был он маленький, на очень коротких ножках. Он отставал, но не печалился, так как верил, что теперь в самом деле умрет. Весело ковылял он по дороге, весело звенели колокольчики, и весело неслась навстречу холодной багряной заре его звонкая песенка:
На-а небе стоит солнце,
а на земле — мороз.
Собрал я колокольцы,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй…
В конце концов Тантадруй пришел на ярмарку. Там было почти так же хорошо, как на небе, но в то же время и чуть похуже, потому что дул ветер и было слишком холодно, хотя и светило золотое зимнее солнце.
Под сводом дверей старого трактира Подкоритара стоял стражмейстер Доминик Тестен в парадном мундире. На боку у него висела большая сабля, украшенная шелковым темляком, на голове сверкала каска с длинным и острым навершием, словно из темени его вырастал серебряный рог. Стражмейстер был серьезен и могуч, как сам господь бог-отец, и столь же свысока и неподвижно взирал он на площадь.
Тантадруй свернул было к нему — очень ему хотелось рассказать, как он нашел настоящую смерть, — но Доминик Тестен так спесиво выпятил грудь и так угрожающе шевельнул густыми усами, что дурачок испугался. Дело в том, что стражмейстер был еще совершенно трезв и таковым обязан был оставаться до самой праздничной мессы, поэтому сейчас ему и в голову не приходило выслушивать разные глупости, и менее всего такие, которые касались смерти.
Разочарованно вздохнув, Тантадруй пошел на площадь. Там в четыре ряда стояли лавки, а в них было богатств и чудес на все вкусы и все желания. Вертелась карусель, завывали шарманки, пиликали гармошки, у детей пищали свистульки и гудели дудки. А сколько народу понаехало на ярмарку! Голова к голове, как на изображении Судного дня, которое Тантадруй частенько разглядывал у крестьянина Хотейца, слывшего защитником всех юродивых и нищих, обиженных богом душ. Правда, на той картине люди стояли неподвижно и молча, здесь же все они кружились, вертелись, спешили, толкались и пихались, говорили, кричали, смеялись, здоровались, похлопывали друг друга по плечу, пожимали руки, потому что каждому попадался знакомый, которого они давненько не встречали.
Тантадруй тоже увидел своих знакомых, ведь на ярмарке собрались все: хорошие и плохие, правые и виноватые, умные и глупые.
Сперва он налетел на Луку Божорно-Босерна. Это был пятидесятилетний богатырь, строитель, мастер на все руки; однажды он свалился с высоких строительных лесов, здорово разбился и повредил голову так, что уже и не мог обрести здравый рассудок. У него отсутствовала правая рука, а вместо левой ноги, которую ему отхватили по самое бедро, была деревяшка, подкованная настоящей лошадиной подковой. Он бродил по селам и с апостольским жаром убеждал, что «теперь нельзя строить кверху, но лишь книзу, немного по земле, а потом прямо в землю». Увидев где-нибудь строительство, он начинал кричать на рабочих и трясти леса. Голос его гремел словно из бочки, сила у него оставалась прежняя, поэтому у строителей очень скоро начинали дрожать коленки. Они спускались вниз и дружелюбно толковали с Лукой о постройках книзу, немного по земле, а потом прямо в землю. После того как они во всем с ним соглашались, он весело прощался.
— Так и надо, божорно-босерна! — гудел он, отдавая по-солдатски честь, и следовал дальше.
Лука много лет строил в Горице и Триесте, и в памяти у него удержалось несколько итальянских слов. Например, он здоровался только по-итальянски, но произносил не «Buon giorno» и «Buona sera»[3], а коротко и отрывисто выпаливал: «Божорно-босерна», причем оба слова вместе, будь то утро, полдень или вечер. Судя по всему, он уже не понимал, что означают эти слова, и употреблял их даже в тех случаях, когда ему требовалось просто подкрепить свои суждения.
Тантадруя он встретил возле лавки Войскара, где было на что поглазеть и можно было прицениться к разным изделиям из кованого железа. Лука перебирал мастерки и молотки, громогласно и пылко рассуждая о своем способе строительства. Войскар с не меньшим пылом соглашался, надеясь тем самым поскорее от него отделаться. Сияя от счастья, Тантадруй сообщил:
— Тантадруй, теперь она уже здесь, и эта будет самая настоящая!
— Божорно-босерна! — загудел Лука, по-солдатски приветствуя его, а поскольку мысли его были еще целиком заняты прежним разговором, добавил: — Если кверху пойдет, то ненастоящая будет!
— Тантадруй, кверху и не пойдет. Пойдет к… Нет! — испуганно подпрыгнул дурачок и приложил палец к губам. — Я должен сперва жупнику рассказать!
— Расскажи, расскажи! Но если пойдет кверху, то ненастоящая будет, и божорно-босерна! — поставил точку Лука.
— Тантадруй, кверху не пойдет! — кивнул дурачок и отвернулся.
— Ты куда сейчас? — прогудел Лука.
— Тантадруй, три колокольчика покупать.
— Три колокольчика? — удивился Лука. — Ты с ума сошел!
— Тантадруй, я с ума не сошел, я дитя божье! — обиделся дурачок. — Так Хотеец сказал.
— Хотеец? — протянул Лука и, подумав, добавил — Если Хотеец сказал, то божорно-босерна! Пошли за колокольцами!
— Пошли, тантадруй! — обрадовался дурачок.
Лука, который уже успел осмотреть ярмарку и поэтому знал, где продают колокольчики, положил на плечо Тантадрую свою единственную руку и принялся проталкивать его сквозь толпу; он подталкивал его так, что все кругом звенело, и при этом гудел:
— Берегись! Берегись! Мы за колокольцами идем!
Не успели они добраться до Локовчена, торговавшего колокольчиками для коров, как навстречу им попался Русепатацис — старый, длинный и очень тощий фурланец. Без малого тридцать лет прослужил он в батраках у скупого хозяина, кормившего своих слуг только репой да картошкой. Еще в ту пору, когда его о чем-либо спрашивали, он лишь пожимал плечами и хмуро бормотал: «Тьфу! Raus е patacis!» И, зная, что люди не понимают фурланского диалекта, добавлял по-словенски: «Репа и картошка!» Особо быстрым умом он никогда не отличался, но почему он лишился разума, никто не знал. В один прекрасный вечер он ни с того ни с сего взбесился. Сбросил со стола огромный глиняный горшок с репой и картофелем и принялся скакать по комнате, точно сражаясь с драконом. Его скрутили, окатили холодной водой и заперли в клеть. На другое утро хозяин велел ему собрать котомку и уйти. Русепатацис ушел в хлев, где он спал, но котомку увязывать не стал, а, взяв топор, принялся убивать коров и лошадей. Услыхав ржание и мычание, люди бросились в хлев, но почти все животные уже были мертвы. Завопив, словно топор вот-вот должен был опуститься на его голову, хозяин рухнул на колени и, ломая руки, умолял своего слугу смилостивиться. Русепатацис презрительно усмехнулся и бросил топор. Тогда его схватили и до полусмерти избили, а потом передали жандармам, и те увели его с собой. Однако жандармам, как позже и судьям, Русепатацис на все вопросы отвечал презрительным фырканьем: «Тьфу! Raus е patacis, репа и картошка!» Решив, что имеют дело с помешанным, его недолго продержали в кутузке, а когда доктора удостоверили, что опасности он не представляет, отправили по месту рождения. Однако Русепатацис не смог жить в равнинной Фурлании. Он убежал обратно в Толминский край. Это был спокойный, ничуть не страшный человек. Но стоило случайно поставить перед ним репу и картофель, как он приходил в ярость. Говорил он очень мало. Обычно махал рукой да презрительно фыркал: