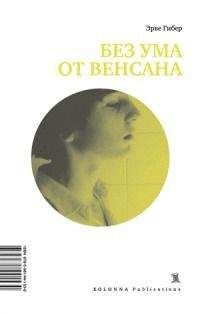заканчивает учебу, он
удачно выкрутился и теперь легко получит работу, перед ним полно возможностей, весь мир для него открыт, так что он за сына больше не тревожится, желает ему удачи и уверен, что удача не заставит себя долго ждать. Он говорит, что он
свое дело сделал. Сыну запомнились эти слова. В ту минуту они пронзили его, словно шпага.
Он говорит, что уезжает далеко, куда – не скажет, искать его и пытаться с ним общаться – не надо, просто исчезнет, вот и все.
Он не испытывает никакого сожаления, ничего не объясняет. (Думаю, он действовал ровно так же и потом, когда решил повеситься.)
Часом позже он уехал.
Жена, вся в слезах, прильнет к нему, попробует удержать, надеясь, что ее смятение и опустошенность его остановят; он не дрогнет. Отец, не скупясь на оскорбления, бросит ему в лицо, что раз так – всё кончено, и он ему больше не сын; но он, кажется, воспринял это проклятие безразлично: оно долетело до него издалека, чуть задержалось внутри и было наконец исторгнуто, как сплевывают желчь. Мать попытается воззвать к его разуму; он возразит, что и так вел себя разумно слишком долго: может быть, это единственная подсказка, которую он оставил. Люка не произнесет ни слова. Так и останется сидеть, забившись в угол. Всматриваясь в холодную целеустремленность человека, которого он видел впервые, родителя, который сейчас обернулся для него совершенно незнакомым и уже абсолютно чужим. Кем-то далеким.
Следующие восемь лет Тома демонстрировал образцовую верность своему слову: ни записки, ни звонка, ни малейшего знака. Он сменил номер телефона, никто не знал его нового адреса, он нигде не объявлялся, никто его не встречал, даже случайно. Порой близкие спрашивали себя, не умер ли он на самом деле.
И семья приняла его условия. Куда денешься. Ничего нельзя поделать с решением одного-единственного мужчины. Но их мирок то и дело бросало: от озлобленности – к печали, от озадаченности – к гневу, от ступора – к ненависти. Рассуждали о том, что с ним могло случиться, говорят, что, наверное, он вернулся в Испанию, или путешествует под чужим именем, или просто поселился в каком-то отдаленном местечке и живет там отшельником. Никто не высказывает по этому поводу иных предположений, кроме одиночества. Да, все сходятся на том, что он вернулся в свое первозданное состояние – одиночество. Еще немного – и это стало бы семейной легендой.
Однако время все сглаживает, затягивает дымкой, размывает очертания, рассеивает, будто пыльцу в воздухе поздней весной. Люка бормочет: ко всему на свете привыкаешь, в том числе и к тому, что от тебя отступаются люди, с которыми ты думал, что связан навсегда.
Я говорю: ты сказал «отступаются».
Он поднимает глаза. Он говорит: да, вы ведь писатель, для вас слова важны. И вы правы, так оно и есть. Кстати, я долго упражнялся, подбирая слова для его исчезновения. Я нашел немало слов, целое множество, я их даже расставил по алфавиту, если хотите знать: исчезновение, отдаление, отказ, отлет, отмена, отмирание, отрыв, отъезд, перечеркивание, побег, потеря, смерть, уклонение, улетучивание, уход. Плюс те, что я забыл.
Но самое подходящее слово – он не решается сказать, что оно нравится ему больше других, – действительно «отступничество». Обычно его используют по поводу шпионов, которые перешли границу в одну или в другую сторону в то время, когда наш мир был расколот на два блока, – в дни холодной войны. Он говорит: да, оно напоминает мне о том русском танцовщике, Нуреев, кажется, его звали, да? – когда он перешагивает барьер, отделяющий советский лагерь от западного в аэропорту Бурже, в начале шестидесятых.
Он видит в этом движении что-то романтическое и опасное, проявление непокорности, неподчинение дисциплине, неискоренимое стремление к свободе, потребность вырваться. И дальше – прыжок. Бывают вечера, когда ему хочется думать, что этот прыжок чем-то похож на тот, что стал причиной исчезновения его отца, и это его поддерживает.
В слове «отступничество» есть и еще одна идея: ему не хватает отца, который его оставил (и подставил тоже). И оба эти смысла тут абсолютно уместны.
Сперва: вина, нарушение, проступок. Он не выполнил обязательства, сошел с прямого пути, нарушил неписаные правила, согрешил против установленного порядка, сыграл против своих, растоптал оказанное ему доверие, оскорбил своих близких, друзей, он – предатель.
Потом: рана, боль, горе. Его тут не было, когда на него рассчитывали, он оставил вместо себя пустоту, которую ничто не заполнит, вопросы, на которые никто не мог ответить, неустранимую тоску, потребность в эмоциях, которую никто не в силах утолить.
Я спрашиваю, пытался ли он отыскать след отца. Он отвечает: сначала – нет. Он уважает его решение, даже если не понимает, даже если оно причиняет ему боль, даже если он считает его невероятно болезненным для своей матери (к тому отказу должна была, вероятно, примешиваться оскорбленная гордость). Он, сквозь зубы: ну, через некоторое время я решил найти его, я даже подумывал нанять сыщика. Потребность понять еще усилилась. И потребность поговорить – тоже. Потому что это безмолвие сводит его с ума. Он говорит: в итоге я отказался. Перед ним собственная взрослая жизнь, собственное будущее, которое надо строить, не нужно, чтобы на нем висело прошлое, тягостное наследие семьи (обида снова взяла верх, остальное было делом времени).
А я-то все продолжал думать: как вообще можно смириться с такой неопределенностью, с такой потерей, которая все же не смерть, с такой недосягаемостью, которая все же преодолима, с таким призрачным существованием, как приспособиться, как скрыться от накатывающей, будто морской вал, потребности исправить этот обман, положить конец притворству, не терпеть больше это странное положение, да и просто эту тоску (к которой то и дело возвращаешься). Мы можем, конечно, уважать чужой выбор (даже если считаем его эгоистическим), но ведь есть еще своя собственная боль, свой гнев и своя грусть, с которыми надо справляться. И я не задал этого вопроса брошенному сыну.
А потом однажды, когда его никто и ждать не ждал, отец вернулся в родные места. Поселился на одной ферме неподалеку.
Это было в прошлом году.
О его возвращении заговорили, и постепенно слух дошел и до его близких. Однако никто не бросился узнавать, как у него дела. Ни его родители, для которых он как будто умер. Ни бывшая супруга, которая вернулась в Галисию, снова вышла замуж и не хочет больше о нем слышать.
И только сын, приехав в очередной раз во Францию, решил его навестить.
Он говорит,