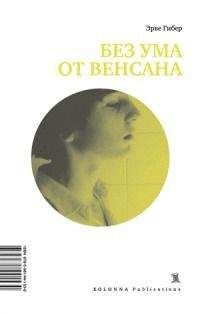что отец сильно изменился, ужасно постарел, почти до полной неузнаваемости. К его большому удивлению, он все же пригласил его к столу, спросил, не хочет ли сын что-нибудь выпить, как будто они только вчера расстались, как будто не было нормальной жизни, рассыпавшейся по одному щелчку пальцев, а потом – того «затемнения», восьми лет непроглядной тьмы. Сын принимает приглашение, садится к столу, смотрит на этого поистрепавшегося мужчину с морщинами вокруг глаз, не испытывает никакого сочувствия, не видит больше их хваленого сходства, семейной неразличимости и даже сомневается, а была ли она раньше. Единственное, что ему кажется знакомым, – это нелюдимость.
Начинается разговор, но он быстро сводится к банальностям, междометиям, быстро оказывается, что говорит один сын. И тут он в конце концов задает неизбежный вопрос, просит объяснить тот уход и это возвращение. Отец не отвечает, даже не пытается оправдаться. Упрямо молчит. Сын спрашивает, испытывает ли он хотя бы сожаление, что так поступил. Тот поднимает голову, смотрит на своего ребенка. И говорит: нет. Он говорит: я мог бы сожалеть, если бы у меня был выбор. Но выбора у меня не было. Больше он ничего не говорит.
Я спрашиваю у Люка, понял ли он эти слова отца.
Он отвечает, что да. Уточняет: теперь – да. Они подтвердили его давние догадки. Я говорю: твои догадки? Голос у меня слегка дрогнул. Он это заметил. И смотрит на меня, не отрываясь, явно желая дать мне понять, что мы говорим об одном и том же, что он понял.
Он говорит: я думаю, это начало складываться у меня в голове в том отеле в Бордо, но не тогда, когда вы меня окликнули в холле, приняв за отца, и не тогда, когда вы сказали, что я на него похож, в общем-то, вы были далеко не первым, нет, это случилось на несколько минут позже, когда вы не могли говорить, а просто смотрели на меня, я понял, что вы его любили, что вы были влюблены в него, это било в глаза. И вот в тот момент я вас узнал, я знал, кто вы, я знал, что вы – гей, вы же говорите это в телепрограммах, если вас спрашивают, отвечаете без колебаний. Когда я приехал в Нант в тот день, я отправился прямиком в книжный, я искал ваши книги, я нашел: «Его брат», «Парень из Италии» и «Решиться на прощание», я купил все три и сразу же их прочел. Эти книги только подтвердили мои догадки. В книге «Решиться на прощание» вы пишете письма мужчине, которого любили, который вас оставил и никогда не отвечает, и вы все время путешествуете, стараясь его забыть. Я говорю: это не я пишу тому мужчине, это женщина, моя героиня. Он отвечает: кому вы это рассказываете? И продолжает: в «Его брате» героя просто зовут Тома Андриё. Вы будете мне объяснять, что это случайность? Я опускаю взгляд, спорить – значило бы усомниться в его уме. Он наносит последний удар: в книге «Парень из Италии» описана двойная жизнь – история мужчины, который не может выбрать между мужчинами и женщинами и врет. И я понял, что ваши романы – как фрагменты пазла, нужно было только собрать его, и возникал понятный образ.
Через восемь дней я вернулся в Лагард к родителям. Я выждал момент, когда остался с отцом наедине, и сообщил ему, что вас встретил. Я почувствовал, как удачно, что моей матери не было в тот момент поблизости. Вы бы видели его лицо в тот момент: там все было написано.
Однако он ничего не сказал, даже сделал вид, что не придает этой новости значения, но было поздно: уже было то мгновение, когда он только услышал, что я виделся с вами, мгновение, когда ноги у него подкосились, он даже не шевельнулся, но, клянусь вам, это выглядело так, будто у него подогнулись колени.
И в этот момент я понял совершенно точно, что он был влюблен в вас, что такое действительно было: мой отец, влюбленный в парня-ровесника.
Это было неоспоримо.
Мне даже не понадобилось ни о чем его спрашивать.
Наверное, у меня в любом случае не хватило бы на это смелости. Потом я сказал себе: может, это был просто эпизод, один из этапов, да, он был, но закончился, и отец переключился на что-то другое – своя жизнь, жена, ребенок, такие вещи ведь часто случаются. И я сказал себе: когда он снова его увидел по телевизору, воспоминания ожили, ну, вроде ностальгии, просто некая тайна из прошлого, ведь у каждого свои тайны, и вообще, хорошо же иметь за душой что-то только твое. Все могло бы и дальше оставаться по-старому. Все должно было остаться по-старому.
Только вот через два дня после того разговора отец собрал нас и объявил о своем уходе.
Рассказ сына меня поразил. Это слово подходит здесь как нельзя лучше, поскольку я всем телом ощутил что-то вроде электрического разряда. И последовавший сразу за ним паралич.
Он спрашивает: вы ничего не скажете? В его словах нет ни насмешки, ни упрека. Я различаю в них скорее любопытство и надежду на понимание.
Я отвечаю: не знаю, что и сказать…
И правда, я в точности это и чувствую – несостоятельность и бессилие.
Но он все-таки ждет. Ждет, пока я выскажусь.
Немного приведя себя в чувство, я в конце концов говорю, что уход его отца выглядел хорошо подготовленным: адвокат, чтобы оформить развод, отказ от наследства – скорее всего, он даже знал, куда направится; все это было решено не на горячую голову. И добавляю, что моя встреча с сыном, хотя, конечно, и была событием не самым обычным, даже если она всколыхнула в нем воспоминания, не могла привести к таким значимым последствиям, вылиться в такой грандиозный переворот.
Он говорит, что согласен со мной. Он много об этом думал. И то, что он обнаружил после смерти отца, только укрепило его в его догадках. По его мнению, эти новости только подтолкнули его к решению, о котором он уже и так долго раздумывал, сделали его неотвратимым. Сработали как откровение. Его отец слишком долго лгал самому себе, ему нужно было прийти с собой в согласие, это было уже необходимо.
Он добавляет: и все же я часто спрашивал себя, не мог ли он уехать ради того, чтобы жить с вами (при всей романтичности и всем безумии этого плана). Теперь я знаю, что нет.
Я вопросительно смотрю на