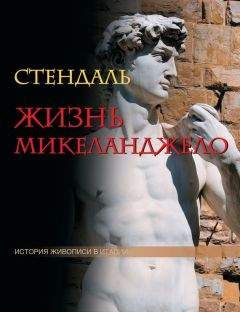Хотя ему едва исполнилось двадцать лет, он слыл юношей весьма ученым и, главное, не по возрасту здравомыслящим. Он был небольшого роста, очень бледен, одутловат, и на всем его облике лежала неуловимая печать елейности.
Однажды вечером в гостиную принесли «Etoile»[78]. Бандероль на ней была сдвинута: очевидно, газету уже читал привратник.
— Значит, и эта газета не лучше других! — невольно вырвалось у шевалье. — Ради мелочной экономии на второй полоске серой бумаги, которая накрест скрепляла бы первую, издатели готовы рисковать тем, что их газету будет читать простонародье, как будто простонародью подобает читать! Как будто оно способно отличить хорошее от дурного! Если так ведут себя монархисты, то чего нам ждать от якобинцев.
Этот неожиданный взрыв красноречия был встречен общим одобрением; он доставил шевалье благосклонность стариков и всех тех, кто не столько блистал умом, сколько на него претендовал. Барон де Риссе, которого читатель, вероятно, уже забыл, величественно поднялся с кресла и обнял юношу. Его жест на несколько минут погрузил гостиную в благоговейное молчание и позабавил г-жу д'Омаль. Она подозвала шевалье и вступила с ним в разговор, как бы взяв его под свое покровительство.
Ее примеру последовали и другие молодые женщины. Шевалье сделался до некоторой степени соперником Октава, который как раз в это время был ранен и лежал у себя дома в Париже.
Но как ни молод был шевалье, вскоре все стали испытывать к нему безотчетную неприязнь. Его нисколько не трогало то, что обычно волнует людей. Он словно готовил себя к совсем особому будущему. Казалось, он способен на самое коварное предательство.
Сорвав лавры успеха нападками на «Etoile», шевалье де Бонниве утром явился с визитом к г-же д'Омаль и повел себя с ней, как Тартюф, предлагающий Дорине прикрыть платочком то, на что смотреть негоже. Он серьезно отчитал ее за легкомысленное замечание по поводу какой-то церковной процессии.
Молодая графиня вступила с ним в спор, звала его приходить к ней и была в восторге от этой нелепой беседы. «Точь-в-точь как мой муж! — решила она. — Жаль, что здесь нет бедного Октава: вот бы мы с ним посмеялись!»
Очень ревниво отнесся шевалье к шуму, поднятому вокруг Октава, имя которого было у всех на языке. Потом Октав приехал в Андильи и снова стал бывать в обществе. Вообразив, что виконт де Маливер без ума от г-жи д'Омаль, шевалье счел необходимым прикинуться влюбленным в прелестную графиню и отпускать ей любезности.
Все свои речи шевалье беспрестанно и очень кстати пересыпал ссылками на знаменитые творения прозаиков и поэтов, как французских, так и латинских. Г-жу д'Омаль, мало сведущую в литературе, это развлекало, и она всегда просила у него разъяснений. Память шевалье, действительно превосходная, никогда не подводила его, и он без запинки приводил подходящие к случаю стихи Расина или фразы Боссюэ, а затем изящным и понятным языком разъяснял связь между приведенной цитатой и предметом разговора. Для г-жи д'Омаль во всем этом была свежесть новизны.
Однажды шевалье сказал:
— Любая статейка из «Пандоры»[79] может навсегда отравить удовольствие, которое доставляет власть.
Это замечание было сочтено весьма глубокомысленным.
Сперва г-жа д'Омаль восхищалась шевалье, но уже через несколько недель она стала его бояться.
— Когда я смотрю на вас, — сказала она ему, — у меня такое ощущение, словно я в глухом лесу встретила ядовитую змею. Чем вы умнее, тем легче вы можете причинить мне зло.
В другой раз она заявила, что именно шевалье придумал мудрое изречение: «Речь дана человеку для того, чтобы скрывать свои мысли»[80].
Немало людей относились к шевалье де Бонниве с исключительным расположением. Так, например, хотя он восемь лет провел вдали от отца в Сент-Ашёле, Бриге[81] и других местах, о которых маркиз порою не имел понятия, все же по возвращении он меньше чем за два месяца полностью вошел в доверие к старику, одному из самых искушенных царедворцев своего времени.
Господин де Бонниве жил в постоянном страхе, что Реставрацию ждет во Франции та же участь, что и в Англии. За последние два года этот страх превратил его в настоящего скрягу. Поэтому все были поражены, когда он через шевалье пожертвовал тридцать тысяч франков на основание нескольких иезуитских общин.
В Андильи шевалье каждый вечер собирал на молитву несколько десятков слуг, которые были приставлены к гостям маркизы, жившим в замке или остановившимся в деревне. За молитвой всегда следовала импровизированная проповедь, короткая и очень красноречивая.
В оранжерее, где происходили эти молитвенные собрания, стали появляться и пожилые дамы, гостившие у маркизы. По распоряжению шевалье оранжерея была уставлена чудесными цветами, которые он заказывал в Париже и часто обновлял. Вскоре его благочестивые и суровые проповеди привлекли всеобщее внимание: они составляли такой контраст с легкомысленным времяпрепровождением в остальную часть вечера!
Командор де Субиран объявил себя рьяным сторонником такого способа внушения твердых принципов простолюдинам, неизбежно окружающим знать и проявившим, добавлял он, такую жестокость во времена террора. Эту полюбившуюся ему фразу командор везде и всюду сопровождал утверждением, что если не будут восстановлены Мальтийский орден и орден иезуитов[82], то не пройдет и десяти лет, как появится новый Робеспьер.
Госпожа де Бонниве сразу же предложила тем из своих слуг, на которых могла положиться, посещать благочестивые упражнения пасынка. Велико было ее удивление, когда эти люди сообщили ей, что шевалье раздает деньги всем, кто поверяет ему свои нужды.
Посвящение в орден Святого Духа все еще откладывалось, и г-жа де Бонниве объявила, что архитектор вызывает ее в Пуату, так как ему удалось наконец нанять нужное число рабочих. Она начала готовиться к отъезду, а вместе с ней и Арманс. Маркиза была не особенно рада, когда шевалье предложил сопровождать ее под предлогом того, что ему хочется вновь увидеть древний замок, колыбель его предков.
Отлично понимая, что его присутствие неприятно мачехе, шевалье видел в этом лишнее основание, чтобы все время быть при ней. Он рассчитывал произвести впечатление на Арманс блеском славы своих прадедов, так как заметил, что девушка дружна с виконтом де Маливером, и хотел отбить ее у Октава. Эти исподволь подготовленные планы обнаружились только тогда, когда он начал приводить их в исполнение.
Не менее популярный среди молодежи, чем среди людей зрелого возраста, шевалье де Бонниве перед отъездом из Андильи ловкими ходами сумел возбудить в Октаве ревность. Когда Арманс уехала, он даже стал подозревать, что этот молодой человек, всегда подчеркивавший свою преданность и безграничное уважение к Арманс, и есть тот таинственный супруг, которого прочил ей старинный друг ее матери.
Расставаясь, Арманс и ее кузен в равной степени терзались ревнивыми мыслями. Арманс думала о том, что оставляет Октава в обществе г-жи д'Омаль, но не считала возможным для себя переписываться с ним.
Во время этой томительной разлуки Октав мог написать г-же де Бонниве не более двух-трех писем; они были очень изящны и необычны по тону. Человек со стороны, прочитав их, подумал бы, что Октав безумно влюблен в г-жу де Бонниве, но не смеет ей в этом признаться.
В течение месяца, проведенного вдали от Октава, когда здравый смысл м-ль Зоиловой уже не затемнялся сознанием того, что ей посчастливилось жить под одной кровлей и трижды в день встречаться со своим другом, она много и горько размышляла. Она не могла скрыть от себя, что, хотя ее поведение и было безупречно, но глаза, когда она смотрела на Октава, целиком ее выдавали.
Немало слез пролила Арманс из-за болтовни горничных г-жи де Бонниве, случайно услышанной ею во время путешествия. Эти женщины, как все, кто окружает богатых людей, всюду видели одну только погоню за деньгами и лишь ею объясняли притворную, по их мнению, любовь Арманс. «Она хочет стать виконтессой де Маливер. Что же, чем плохая партия для бедной и незнатной дворяночки?»
Арманс была потрясена тем, что ее могли так оклеветать. Она решила: «Я навеки опозорена. Все догадались о моей любви к Октаву, и это еще не самый большой грех, в котором меня обвиняют: я живу под одной кровлей с ним, а брак между нами невозможен...» Эта мысль наперекор всем доводам рассудка отравляла существование Арманс.
Бывали минуты, когда ей казалось, что она даже разлюбила Октава. «Я бесприданница, — думала она, — мне нельзя выйти за него замуж, и потому нужно пореже с ним встречаться. Если он меня забудет — а это вполне возможно — я уйду в монастырь: лучшего, более надежного пристанища для остатка моих дней мне не найти. Я буду следить за успехами Октава, думать о нем. Сколько мы знаем случаев, когда женщины моего круга заканчивали свою жизнь так, как ее закончу я!»