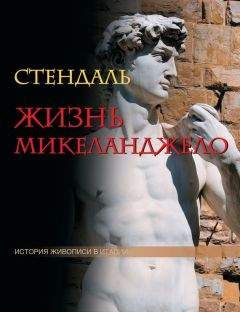Предчувствие не обмануло Арманс.
Страшное для молодой девушки сознание, что у обитателей дома — того дома, где жил Октав! — есть какая-то видимость права дурно судить о ней, погрузило ее в беспросветное уныние. Стоило ей отвлечься от мысли о своем малодушии (ибо Арманс считала, что вела себя в Андильи малодушно), как перед ней всплывал образ г-жи д'Омаль, обаяние которой она невольно преувеличивала. Постоянные разговоры шевалье де Бонниве привели к тому, что кара, которую налагает свет на тех, кто не подчиняется условностям, начала представляться ей куда более суровой, чем она бывает в действительности. К концу пребывания в старинном замке Бонниве Арманс плакала ночи напролет. Г-жа де Бонниве заметила ее печаль и не преминула выразить ей свое неудовольствие.
Арманс отнеслась совершенно равнодушно к немаловажному событию, которое произошло как раз в ту пору. Во время политических беспорядков в России[83] покончили с собой ее трое дядюшек, совсем еще молодые люди, офицеры русской армии. Их смерть держали в тайне, но все же через несколько месяцев письма, не попавшие в руки полиции, дошли до м-ль Зоиловой. Она унаследовала значительное состояние и, таким образом, стала недурной партией для Октава.
Это событие никак не улучшило расположение духа г-жи де Бонниве, которая уже не могла обойтись без Арманс. Бедной девушке пришлось выслушать очень жестокие слова о том, что всем гостиным она предпочитает гостиную г-жи де Маливер. Великосветские дамы не более злы, чем просто богатые женщины, но люди, которые постоянно общаются с ними, становятся особенно самолюбивыми и поэтому глубоко чувствуют обидные упреки.
Арманс уже считала, что ее несчастья достигли предела, но вот однажды утром шевалье де Бонниве сообщил ей тем безразличным тоном, каким говорят о вещах всем известных, что Октав снова болен, что рана на его руке открылась и грозит осложнениями. С тех пор, как Арманс уехала, Октав, который знал теперь, что такое настоящее счастье, стал скучать в обществе. На охоте он вел себя неосторожно, и это привело к печальным последствиям. Ему взбрело в голову стрелять левой рукой из маленького, очень легкого ружья; успех только подстегнул его.
Как-то, гоняясь за раненой куропаткой, он перемахнул через овраг и ударился рукой о дерево. У него возобновилась лихорадка. Во время болезни и потом, когда он медленно выздоравливал, искусственное, если так можно выразиться, счастье, которым он наслаждался в присутствии Арманс, стало казаться ему не более реальным, чем сон.
Мадмуазель Зоилова вернулась в Париж, и на следующий день влюбленные встретились в замке Андильи. Оба были грустны, и грусть эта была вызвана причиной самого опасного свойства: взаимным недоверием. Арманс не знала, какого тона ей держаться с кузеном, и в первый день они почти не разговаривали.
Пока г-жа де Бонниве в Пуату тешилась возведением готических башен и сознанием, что она возрождает двенадцатый век, г-жа д'Омаль предприняла решительные шаги, которые увенчались полным успехом: давняя честолюбивая мечта маркиза де Бонниве исполнилась. Г-жа д'Омаль стала героиней дня в Андильи. Чтобы укрепить дружбу со столь полезной приятельницей, г-жа де Бонниве уговорила ее на время своего отсутствия занять небольшие апартаменты в верхнем этаже замка, почти рядом с комнатой Октава. Графиня нередко заводила при всех речь о том, что она является до некоторой степени виновницей раны Октава и его теперешнего недомогания. Вспоминать о поединке, стоившем жизни маркизу де Креврошу, было в высшей степени бестактно, но г-жа д'Омаль не могла удержаться от этих намеков: светские обыкновения имеют не больше отношения к душевной тонкости, чем наука к духовной жизни человека. Только внешние впечатления задевали эту поверхностную и далеко не романтическую натуру. Не успела Арманс провести несколько часов в Андильи, как ее уже больно поразило то обстоятельство, что женщина, обычно столь легкомысленная, упорно возвращается к одной и той же теме.
Арманс приехала очень грустная и подавленная. Второй раз в жизни ее терзало чувство, особенно мучительное для тех, кто искренне уважает светские условности. Она считала, что во многом погрешила против них. «Я должна строго следить за собой», — думала она, заставляя себя перевести взгляд с Октава на ослепительную графиню. Все, что в этой женщине было прелестного, служило для Арманс поводом к ощущению собственного ничтожества. «Может ли Октав не отдать ей предпочтения? — твердила она себе. — Ведь даже я понимаю, как она неотразима».
Эти тягостные чувства, соединившись с угрызениями совести, напрасными, но от этого не менее жестокими, привели к тому, что Арманс стала крайне замкнутой с Октавом. Наутро после приезда она, нарушив свой обычай, не спустилась в сад, хотя знала, что Октав ждет ее там.
В течение дня Октав несколько раз заговаривал с ней. Думая, что все на них смотрят, она терялась, застывала на месте и едва отвечала.
За обедом разговор зашел о наследстве, неожиданно доставшемся Арманс, и она отметила про себя, что Октав был, видимо, недоволен, так как не сказал ей на эту тему ни слова. Но скажи он что-нибудь, она радовалась бы во сто раз меньше, чем теперь огорчалась из-за его молчания.
Октав не вслушивался в разговор; он думал о том, как странно держится с ним Арманс после возвращения. «Все совершенно ясно, — говорил он себе, — она меня больше не любит или же дала окончательное согласие шевалье де Бонниве». Безразличие Октава к ее новообретенному богатству явилось для бедной девушки новым и неисчерпаемым источником горя. Впервые она по-настоящему серьезно задумалась об этих деньгах, полученных ею из России, деньгах, благодаря которым, если бы Октав ее любил, она могла бы считаться довольно подходящей для него партией.
Чтобы написать Арманс в Пуату, Октаву нужен был предлог, и он послал ей маленькую поэму о Греции, опубликованную леди Нельком, молодой англичанкой, приятельницей г-жи де Бонниве. Во Франции было всего два экземпляра этой поэмы, вызвавшей много разговоров. Если бы в гостиной увидели экземпляр, прибывший из Пуату, не было бы отбоя от докучных посягательств на него. Октав попросил кузину переслать поэму прямо к нему в комнату. Арманс растерялась, так как у нее не хватало смелости дать такое поручение горничной. Она сама поднялась на третий этаж и положила английскую книжечку на ручку двери Октава таким образом, чтобы вернувшись, он не мог ее не заметить.
Октав был глубоко взволнован. Он видел, что Арманс не хочет с ним разговаривать. Не желая обращаться к ней первым, он ушел из гостиной, когда не было еще десяти часов. Его осаждали тысячи мрачных мыслей. Г-жа д'Омаль очень быстро соскучилась без него: разговор шел о политике, притом в самых унылых тонах, и графиня, сославшись на головную боль, в половине одиннадцатого тоже ускользнула из гостиной. «Возможно, что Октав и г-жа д'Омаль условились вместе пойти погулять». При этой мысли, возникшей одновременно у всех, Арманс побледнела. Потом она стала упрекать себя за свое огорчение, столь неуместное, что оно могло бы уронить ее в глазах кузена.
На другой день рано утром Арманс зашла к г-же де Маливер, которой потребовалась какая-то шляпка. Горничная маркизы была в деревне. Арманс отправилась в комнату, где лежала шляпка. Для этого ей нужно было пройти мимо комнаты Октава. Она словно к месту приросла, увидев, что книга все так же лежит на ручке двери, как накануне. Было ясно, что Октав не ночевал у себя.
И действительно, он не ночевал. Несмотря на недавний случай с рукой, он решил поохотиться и, чтобы встать пораньше и уйти незамеченным, переночевал у лесничего. Он рассчитывал, что вернется в одиннадцать часов к завтраку и тем самым избегнет упреков в безрассудстве.
Вернувшись к г-же де Маливер, Арманс вынуждена была сказаться нездоровой. На ней лица не было. «Я несу заслуженную кару, — думала она, — за то, что поставила себя в ложное и неподобающее молодой девушке положение. И вот теперь я страдаю от таких вещей, в которых не смею признаться себе самой».
При встрече с Октавом Арманс не решилась даже вскользь спросить, почему он не взял английской поэмы: она считала, что такой вопрос для нее унизителен. Третий день ее жизни в Андильи был еще тяжелее двух предыдущих.
Подавленный переменой в поведении Арманс, Октав считал, что даже если она видела в нем только друга, все равно должна была рассказать ему о своих огорчениях. В том, что Арманс несчастна, Октав не сомневался. Ему было ясно также и то, что шевалье де Бонниве прилагает все усилия, чтобы они, будь то на охоте или в гостиной, не оставались вдвоем.
Арманс делала вид, что не понимает осторожных намеков, которые Октав иногда позволял себе. Она призналась бы в своих страданиях и изменила бы предписанное ею себе сдержанное до сухости поведение, только если бы что-нибудь глубоко ее взволновало. Октав был слишком молод и несчастен, чтобы догадаться об этом и воспользоваться своим открытием.