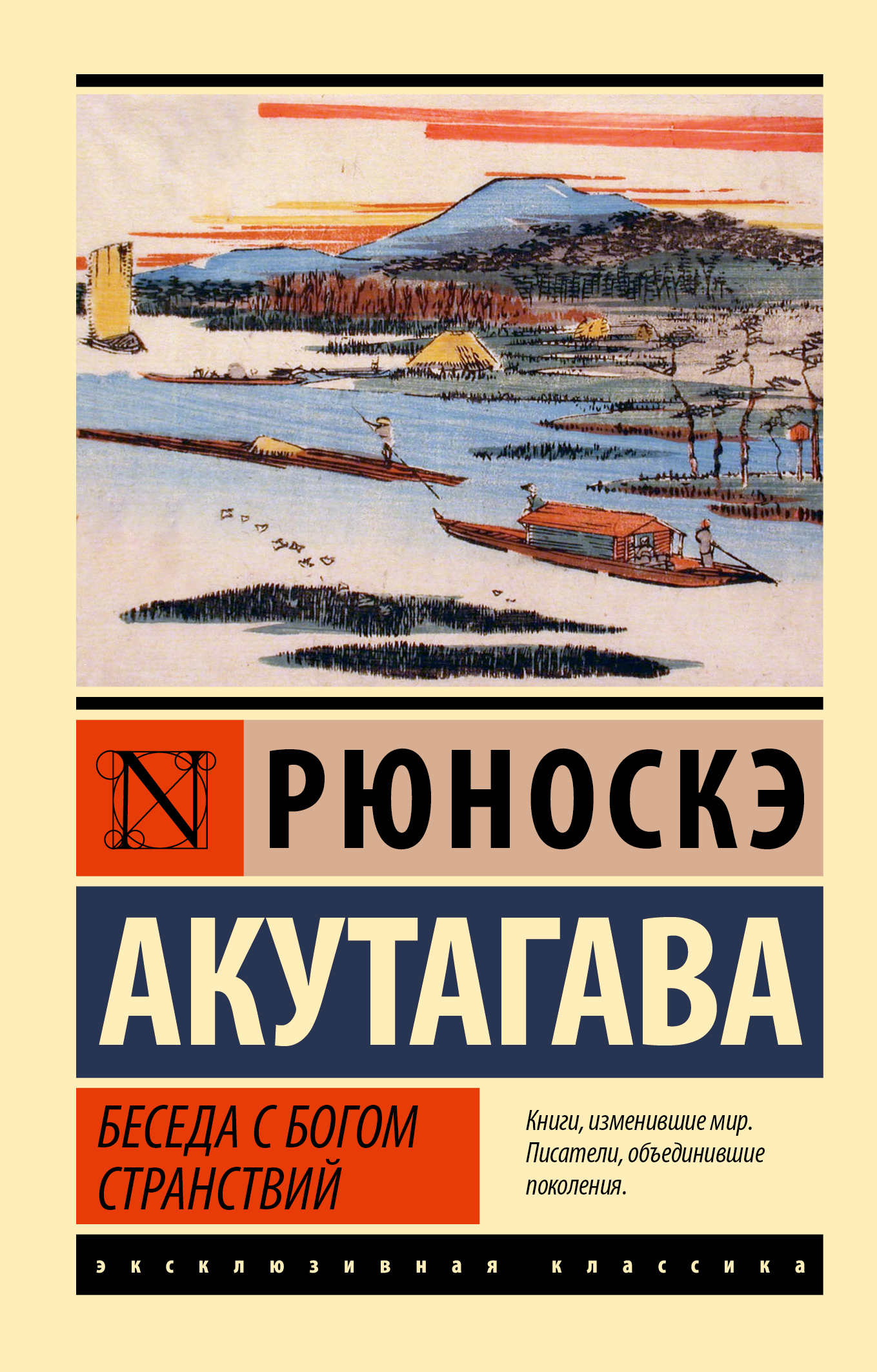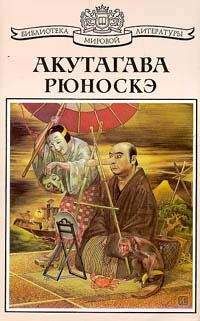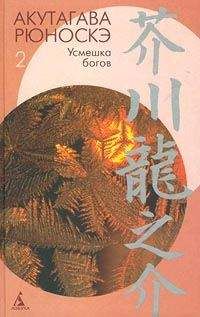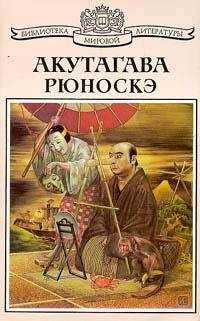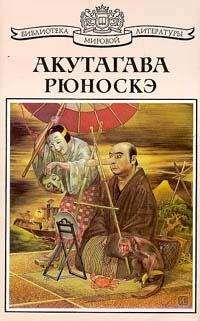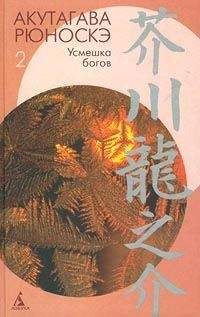но…
Хацуко, приветливо улыбнувшись, снова посмотрела за решётчатую дверь.
– Ах вот в чём дело? Ну, тогда пошли.
– Я без конца доставляю беспокойство.
– Ничего страшного, я сегодня бездельничаю.
Сюнскэ проворно зашнуровал ботинки, надел пальто и, схватив форменную фуражку, вместе с Хацуко вышел из дому.
Дожидавшаяся на улице Тацуко, у которой был точно такой же сиреневый зонтик, как у Хацуко, увидев Сюнскэ, положила свои изящные руки на колени и молча поклонилась. Сюнскэ с деланым равнодушием поклонился в ответ. Ещё кланяясь, он спохватился: не произведёт ли его равнодушие неприятное впечатление на Тацуко? И в то же время подумал, что в глазах Хацуко такое поведение может выглядеть как проявление нежности, которую он пытается изгнать из своего сердца. Но она посчитала их поведение нелепым и, раскрывая свой сиреневый зонтик, сказала:
– Трамваем? Сядем на остановке у ворот университета.
– Да, туда, наверно, ближе.
Они пошли по узкой улочке.
– Тацуко-сан почему-то говорила, что сегодня мы вас дома не застанем.
Сюнскэ, сделав удивлённое лицо: мол, действительно, почему, – посмотрел на шедшую рядом с ним Тацуко. Сиреневый зонтик бросал лёгкую тень на её припудренное лицо.
– Мне как-то неприятно идти в такое место, где находятся люди, сошедшие с ума.
– А я совершенно спокойна.
Хацуко крутила в руках зонтик.
– Иногда я подумываю, не попытаться ли мне самой стать сумасшедшей.
– Что за глупости. Почему вдруг?
– Мне кажется, что, если я это сделаю, произойдут необыкновенные вещи, совсем непохожие на те, с которыми я сталкиваюсь в своей нынешней жизни. Ты так не думаешь?
– Я? По мне, лучше, чтобы ничего необычного не происходило. Хватит об этом.
XXV
Нитта проводил их в приёмную. В ней, что было странно для такого рода заведений, ничто не раздражало – на окнах висели шторы, на полу лежал ковёр, стоял рояль, на стенах были развешаны масляные картины. На рояле стояла красивая медная ваза с розами, хотя их сезон ещё не наступил. Нитта предложил гостям стулья и на вопрос Сюнскэ ответил, что розы выращены в оранжерее лечебницы.
Потом Нитта повернулся к Хацуко и Тацуко и, как заранее попросил его об этом Сюнскэ, чётко разъяснил им то, что можно было назвать общими сведениями по психиатрии. Он был старше Сюнскэ, ещё со времени их совместной учёбы в колледже проявлял интерес к литературе, которая была далека от его специальности, поэтому и в своих объяснениях, говоря о душевнобольных, неоднократно приводил в качестве примеров имена Ницше, Мопассана, Бодлера.
Хацуко внимательно слушала его объяснения. Тацуко, хотя и сидела по своей привычке потупившись, кажется, тоже проявляла большой интерес. В глубине души Сюнскэ завидовал Нитте, который так прекрасно объяснял, что привлёк их внимание. Но Нитта держался с девушками совершенно спокойно, если можно так выразиться, почти официально. В то же время его одежда – полосатый пиджак и скромный галстук – была на удивление так проста, что его имя можно было смело включить в число деятелей искусств конца века.
– Слушая твой рассказ, я и сам почувствовал, что схожу с ума.
Когда объяснения были закончены, Хацуко с серьёзным лицом сказала, вздохнув:
– Да, строго говоря, между обычными людьми, находящимися в здравом уме, и психическими больными не существует чёткой грани. А уж между названными вами гениями и душевнобольными тем более нет никакой разницы – это можно смело утверждать. Как вы знаете, заслуга Ломброзо в том, что он указал на отсутствие такой разницы.
– А мне бы хотелось, чтобы он указал на наличие разницы, – шутливо возразил Сюнскэ, вмешавшись в разговор.
Нитта холодно посмотрел на него:
– Если таковая существует, на это, разумеется, нужно указать, но поскольку не существует, то тут уж ничего не поделаешь.
– Но гений есть гений, а сумасшедший есть сумасшедший.
– Такая же разница существует между манией величия и манией преследования.
– Соединять эти понятия неправомерно.
– Нет, их нужно соединять. Ведь гений эффективен, а душевнобольной, безусловно, неэффективен. Разница между ними – это разница в ценности их деятельности. А не разница в их природе.
Сюнскэ, знакомый с точкой зрения Нитты, переглянувшись с девушками, умолк. Нитта же, будто насмехаясь над своей чрезмерной рассудительностью, скривил губы в улыбке, но тут же снова посерьёзнел и посмотрел на остальных.
– Ну что ж, пойдёмте, я вас провожу, – сказал он, легко вставая со стула.
XXVI
В первой палате, куда он их привёл, причёсанная по-европейски девушка увлечённо играла на фисгармонии. Фисгармония была обращена к забранному металлической решёткой окну, лившийся из него свет холодно освещал тонкое лицо девушки. Стоя у двери палаты и глядя на цветы белой камелии, застилавшей окно, Сюнскэ испытал чувство, будто попал в женский монастырь на Западе.
– Это дочь одного промышленника из Нагано, она сошла с ума из-за того, что сделанное ей предложение было отвергнуто.
– Бедненькая.
Это прошептала тоненьким голоском Тацуко, а Хацуко, не выразив никакого сочувствия, с нескрываемым любопытством в упор смотрела на девушку, сидевшую к ней в профиль.
– Кажется, она не забыла лишь, как играть на фисгармонии.
– Не только как играть на фисгармонии. Она прекрасно рисует. Шьёт. Каллиграфически пишет.
Сказав им это, Нитта оставил их у входа в палату, а сам тихо подошёл к фисгармонии. Но девушка, казалось, не обратила на него внимания и продолжала бегать пальцами по клавишам.
– Здравствуйте. Как вы себя чувствуете?
Нитта повторил это несколько раз, но девушка, по-прежнему глядя на белую камелию в окне, даже не думала поворачиваться. Мало того, когда Нитта легко дотронулся рукой до её плеча, она решительно отбросила её, а пальцы продолжали безошибочно извлекать грустную мелодию, соответствующую атмосфере этой палаты.
Все трое, почувствовав неловкость, отошли от двери.
Прикрыв дверь в палату девушки, Нитта открыл дверь следующей и чуть извиняющимся тоном подозвал остальных:
– Смотрите.
Войдя в палату, они увидели, что её пол покрыт скреплённой раствором галькой, как в ванной комнате. Посредине было три большие ямы, похожие на огромные, утопленные горшки с водопроводными кранами над каждым из них. В одной во весь рост стоял бритоголовый молодой человек, по шею засунутый в мешок цвета хаки.
– Здесь охлаждают головы пациентов. Как только появляются симптомы буйства, их тут же помещают в мешки.
Действительно, из крана над ямой, в которой стоял молодой человек, на его бритую голову тонкой струйкой текла вода. Однако его посиневшее лицо было лишено всякого выражения, выделялись лишь устремлённые в пустоту мутные глаза. Преодолев охвативший его ужас, Сюнскэ сказал с негодованием:
– Какая жестокость. Она не к лицу даже тюремным надзирателям, не то что врачам психиатрической лечебницы.
– Подобные тебе идеалисты в старые времена нападали на врачей, производивших анатомирование, обвиняя их в антигуманизме.
– И всё же, разве это не печально?
– Разумеется, печально, но в то же время и не печально.
Хацуко, и бровью не поведя, спокойно смотрела на молодого человека в яме, а Тацуко… Отведя взгляд от Хацуко, Сюнскэ вдруг заметил, что её нет, она исчезла из