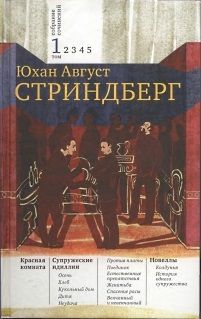— Где ты была шестого июля? — спросил Фаландер с уничтожающим лицом судьи.
— С какими глупыми вопросами ты пристаешь! Как могу я припомнить сегодня то, что было три месяца тому назад?
— Ты была у меня, а сказала Гьяльмару, что была у тетки.
— Не слушай его,— сказала Агнесса и, ласкаясь, приблизилась к Ренгьельму,— он болтает глупости.
В одно мгновение Ренгьельм схватил ее за горло и опрокинул навзничь в угол около печки, где она осталась лежать неподвижно на вязанке дров.
Затем Ренгьельм схватил шляпу, но Фаландеру пришлось помочь ему надеть пальто: так дрожал он всем телом.
— Пойдем,— сказал он. Плюнул на камни перед печкой и вышел.
Фаландер помедлил мгновение, пощупал пульс Агнессы и последовал за Ренгьельмом, которого догнал внизу.
— Я удивляюсь тебе,— сказал Фаландер Ренгьельму.— Ведь дело было так ясно, что не требовало никаких разъяснений.
— Прошу тебя, оставь все это! Нам осталось немного времени побыть в обществе друг друга; с ближайшим поездом я уеду домой, чтобы работать и забыть! Зайдем в ресторан и «оглушимся», как ты это называешь.
Они вошли в ресторан и взяли кабинет. Вскоре они сидели за накрытым столом.
— Я не поседел? — спросил Ренгьельм и схватился за волосы, которые были совсем влажные и слиплись.
— Нет, мой друг, это бывает не так скоро; и я-то еще не сед.
— Она не ушиблась?
— Нет!
— В этой комнате это было — в первый раз!
Он встал из-за стола, подошел к дивану и упал перед ним на колени; положил голову на диван и заплакал, как дитя на коленях у матери.
Фаландер сел рядом с ним и взял его голову в руки. Ренгьельм почувствовал, как что-то горячее, как искра, упало ему на шею.
— Где твоя философия, друг мой? Сюда ее!.. Я утопаю! Соломинку! Сюда!
— Бедный, бедный мальчик!
— Я должен ее видеть! Я должен попросить у нее прощения! Я люблю ее! Несмотря ни на что! Ни на что! Не ушиблась ли она? Бог мой! Можно ли жить и быть таким несчастным, как я!
В три часа пополудни Ренгьельм уехал поездом в Стокгольм. Фаландер захлопнул за ним дверцу купе.
Осень принесла большие перемены и Селлену. Его высокий покровитель умер, и все воспоминания о нем уничтожались; даже воспоминания о его хороших делах не должны были пережить его. Что стипендию прекратили — само собой разумеется, тем более что Селлен не был из числа тех, кто ходит попрошайничать. К тому же он находил, что не нуждается в поддержке, после того как ему уже протянули руку помощи; он видел вокруг себя многих более молодых и — более нуждающихся.
Но он увидел, что не только солнце погасло, но и все маленькие планеты совершенно затмились; хотя он за лето и укрепил свой талант строгой работой, председатель заявил, что он пошел назад и что его весенний успех был простой удачей; профессор пейзажной живописи дружески объявил ему, что из него никогда ничего не выйдет; а академический критик воспользовался случаем реабилитироваться и настаивал на своем первоначальном мнении. Кроме того, у покупающих картины, то есть у невежественной кучки людей, наступила перемена вкуса; пейзажи должны были непременно изображать дачные места, если их желали продать; но и тогда было нелегко пробиться, потому что, в сущности, шел только сентиментальный жанр и полуобнаженная кабинетная живопись.
Наступили, таким образом, тяжелые времена для Селлена, и ему было очень тяжело, потому что он никак не мог заставить себя работать не по своему вкусу. Он снял теперь оставленное фотоателье на главной улице. Помещение состояло из самого ателье с прогнившим полом и дырявой крышей и из бывшей темной комнаты, пахнущей коллодием {99} и годной только для угольного или дровяного чулана, если обстоятельства позволяли это. Мебель состояла из садовой скамьи орехового дерева, из которой торчали гвозди и которая была так коротка, что ее хватало только до сгиба колен тому, кто пользовался ею как кроватью; а кроватью она служила всегда, когда ее владелец ночевал дома. Постель состояла из половины пледа и папки, разбухшей от этюдов. В чуланчике был водопроводный кран с раковиной; это была уборная.
В один холодный день, незадолго перед Рождеством, Селлен стоял перед мольбертом и в третий раз писал новую картину на старом холсте. Он только что встал со своей жесткой постели; прислуга не приходила и не топила, отчасти потому, что у него не было прислуги, отчасти потому, что ему нечем было топить. Никто не чистил его платья и не принес ему кофе. И все же он стоял и весело насвистывал и писал сверкающей закат, когда четыре раза стукнули в дверь. Селлен отворил немедленно, и в комнату вошел Оле Монтанус, одетый очень просто и легко, без плаща.
— Доброго утра, Оле! Как дела? Хорошо ли ты спал?
— Спасибо за внимание.
— Как дела со звонкой наличностью?
— О, плохо!
— А кредитные билеты?
— Так мало билетов в обращении…
— Да. Значит, не хотят больше выпускать. Но иные ценности?
— Нет никаких!
— Как ты думаешь, зима будет суровая?
— Я видел сегодня много галок, а это обещает холодную зиму!
— Ты делал утреннюю прогулку?
— Я гулял всю ночь, уйдя в двенадцать часов из Красной комнаты.
— Так ты был там вчера вечером?
— Да, и познакомился с двумя людьми: доктором Боргом и Леви.
— Ах, так! Я знаю их. Почему ты не переночевал у них?
— Нет, они вели себя высокомерно, потому что у меня не было пальто, и я стыдился. Я так устал, я на мгновение прилягу на твой диван! Я прошел через весь город и обежал половину; сегодня я возьму работу у орнаментщика, а не то помирать придется.
— Правда ли, что ты поступил в рабочий союз «Полярная звезда»?
— Да, это правда! Я в воскресенье буду читать там реферат о Швеции.
— Это материал! Очень хорошо!
— Если я засну здесь на диване, не буди меня. Я невероятно устал.
— Не стесняйся! Спи!
Через несколько минут Оле спал глубоким сном и храпел. Его голова свисала с одного конца, а ноги — с другого.
— Бедняга! — сказал Селлен и накинул на него плед.
Постучали опять, но не условным стуком, так что Селлен счел за лучшее не отпирать; но тут стук стал так громок, что страх перед чем-нибудь серьезным исчез, и Селлен открыл дверь доктору Боргу и Левину. Борг начал:
— Фальк здесь?
— Нет!
— А что это за вязанка валяется там? — продолжал Борг и указал ногой на Оле.
— Это Оле Монтанус.
— Ах, это тот экземпляр, который Фальк имел вчера при себе. Он спит еще?
— Да, он спит.
— Он ночевал здесь?
— Да.
— Почему ты не топил? Здесь дьявольски холодно!
— Потому что у меня нет дров.
— Тогда пошли за ними! Где прислуга?
— Прислуга ушла в церковь.
— Тогда разбуди этого вола, я его пошлю.
— Нет, пусть он спит,— попросил Селлен и поправил плед на Оле, который храпел все время и продолжал храпеть.
— Ну, так я научу тебя другому фокусу. Что под твоим полом в качестве наката? Земля?
— Этого я не знаю,— ответил Селлен и осторожно уселся на нескольких листах картона, разложенных на полу.
— Есть у тебя еще такой картон?
— Да, как же,— ответил Селлен и слегка покраснел у корней волос.
— Мне нужен картон и каминные щипцы.
Борг получил то, чего требовал. Селлен взял свой походный стул и сел на разложенный на полу картон, как бы охраняя клад.
Борг скинул сюртук и при помощи щипцов выломал из пола сгнившую от дождя доску.
— Проклятый малый! — закричал Селлен.
— Так я делал в университете в Уппсале,— сказал Борг.
— Но это не годится в Стокгольме!
— Черт подери, я мерзну и мне нужен огонь!
— Но поэтому ты не должен ломать пол посреди комнаты! Ведь это же сразу видно!
— Что мне за дело, видно ли это или нет! Я здесь не живу! Но это уже слишком!
Он приблизился к Селлену и опрокинул его вместе со стулом; в падении Селлен увлек за собою свой картон, так что открылся обнаженный накат.
— Какой негодяй! У него здесь настоящий дровяной склад, а он молчит.
— Это дождь наделал.
— Что мне за дело, кто это сделал! Теперь мы разведем огонь.
Сильно рванув, он высвободил несколько досок, и вскоре камин уже топился.
Левин тем временем вел себя спокойно, выжидающе и вежливо. Борг сел к огню и раскалил щипцы.
Опять стукнули — три раза коротко и раз длиннее.
— Это Фальк,— сказал Селлен и отворил. Фальк вошел; у него был несколько бледный вид.
— Нужны тебе деньги? — спросил Борг вошедшего и хлопнул по своему бумажнику.
— Почему ты спрашиваешь? — сказал Фальк недоверчиво.
— Сколько тебе нужно? Я могу достать!
— Ты это серьезно? — спросил Фальк, и лицо его несколько просветлело.
— Серьезно? Гм!.. Сколько? Сумму! Цифру!