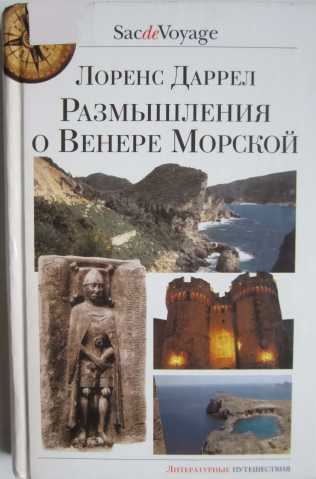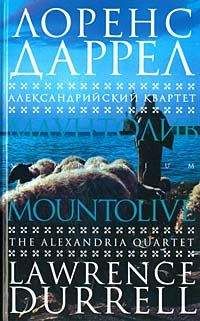в жаровне; я часто наблюдал, как ловко он наполняет бумажные пакетики, все время покрикивая хрипловатым басом: «Каштаны… каштаны». Рядом с ним стоят несколько бродячих продавцов воды, у каждого своя маленькая белая муниципальная тележка, прикрытая охапкой зелени. А следом идут продавцы сладостей, кричащие так, будто у них разрывается сердце: «Конфееееты… конфееееты». Тут и шоколад, и нуга, и миндальная халва, и марципаны, и фисташковая нуга, и сладости потяжелее, вроде
галактобурикотл баклавы, которые, утверждает Гидеон, сделаны из использованной промокашки и меда. На некотором расстоянии друг от друга расположились и специалисты по лукумадес с длинными ложками наготове, чтобы выхватить прожаренный до золотистой корочки пончик и окунуть его в медовый соус. Дети облепили эти прилавки, жадно вдыхая горячие цветочные ароматы, каждый держит на смуглой ладошке листочек бумаги, предвкушая, когда на него положат обжигающий пончик. Здесь также жарят кедровые орешки. Три катушки мастика (эгейский аналог жевательной резинки) разматывают и раскладывают по формам или просто набирают в ложку и бросают в стаканы с водой.
На одном конце этой галереи, полной запахов и звуков, находится территория, заселенная некоторым количеством заросших щетиной джентльменов, раздетых почти донага и перемазанных сажей. Они живут в настоящем лесу из внутренностей, время от времени из этой ливерной чащи высовываются головы, и джентльмены что-то свирепо кричат, потом снова идут к вертелам; вокруг них на жестяных коробках из-под галет, наполненных превосходным древесным углем, жарятся внутренности невезучих овец и ягнят, — бедный Гидеон. Каждый вид требухи требует особого подхода; рубец наматывают на огромный вертел, набивая гвоздикой, мускатным орехом и чесноком, и медленно жарят; овечьи внутренности жарят на плоскодонной сковороде, быстро переворачивая и поливая жиром и лимонным соком. Яйцам, сердцам и печенкам уделяется должное профессиональное внимание, они по-разному готовятся и на различных вертелах. Повара держат в зубах длинные ножи, что придает им жуткий вид, они мечутся от одного прилавка к другому, то срезая тончайший ломтик говядины, чтобы снять пробу, то снимая целую груду кебаба с вертела, сваливая его на жестяное блюдо. Кажется, они не перестают кричать ни на секунду, даже когда у них в зубах ножи. Они принимают великолепные гладиаторские позы. Горячий мясной сок лужицами стекает за прилавки, где целые своры кошек и собак толпятся в ожидании подачки. Уличный гвалт неописуем; но если отойти на двадцать ярдов в сторонку, там, где устроены кафе, уже не так шумно. Повсюду как грибы выросли столики и стулья, и крестьянские семьи расселись там пестрыми полукругами, чтобы выпить и закусить. То здесь, то там группы музыкантов настраивают аккордеоны, гитары и скрипки, они иногда поднимаются и, вставая поближе друг к другу, проигрывают несколько разрозненных фрагментов. Где-то слышен большой барабан, будто медленно бьют по огромному тугому брюху. Эти глухие удары означают, что уже начались танцы, но я не вижу, где именно; а чуть выше раздается рев ослов и лихорадочнопронзительное блеянье жертвенных барашков — кажется, будто это сипло кричит сам воздух.
На пригорке, где трава зеленее и гуще всего, где начинаются заросли миртовых и земляничных деревьев, еле передвигаются грузовики, как потерянные верблюды, ищут хорошую стоянку. Здесь целые семьи распаковали свои пожитки, разложили цветные коврики и подушки, намереваясь пробыть тут до завтра. Величественные крестьянские матроны вытаскивают словно бы чешуйчатые подстилки для младенцев и разбирают седельные сумки, полные бутылок, жестянок и огромных буханок домашнего хлеба. Я брожу по этому людскому лесу, полный счастливой отрешенности, будто ребенок по любимой полянке, упиваясь всем — даже вкусом шершавой красной пыли, заволакивающей воздух и сушащей горло; всей этой причудливой смесью запахов, которые вместе составляют антологию греческого праздника под соснами: бензин, чеснок, вино и козы.
Ненадолго сажусь под дерево, чтобы лучше рассмотреть этот перенаселенный холст, в каждом углу которого одновременно разыгрываются совершенно не связанные между собой сцены. Мехмет-бей, которому явно удалось переправить хороший груз в залив Трианды, перекладывает содержимое огромного сундука в чемоданы торговцев, без сомнения, своих агентов: бусы, зеркала, кольца, гребешки, турецкие вышивки на картонках и разные детские игрушки из целлулоида, вроде маленьких пропеллеров на палочках — это вертушки. (Если махать из стороны в сторону, пропеллеры вращаются с восхитительным мягким шелестом.) Дети набрасываются на тележку Мехмета, как собаки на медведя. Их атака отбита. Они возвращаются. Мехмет-бей снимает свою шляпу гаучо и бессмысленно отмахивается от них, заодно пытаясь мысленно сосчитать, сколько товара он дает каждому разносчику. Чуть левее другая стайка сорванцов забрасывает корками дурачка, наверняка это живой талисман при каком-нибудь кафе; впрочем, возможно, он пришел к святому за исцелением. На западе я вижу барона Бедекера, который трудится, как муравей. От клиентов нет отбоя. Все хотят сфотографироваться. Барон устроил ателье у беленой стены помоста — из нее получился восхитительный отражатель. К ней же он приладил свой единственный задник, который, должен признать, выглядит тут весьма органично. Это аляповатое изображение аэроплана с прорезанными в холсте круглыми дырками, в которые можно вставить голову, и получишь фото, запечатлевшее твой полет. Крестьяне в восторге от этого нехитрого трюка с жаром выясняют, чья теперь очередь летать… Сам аэроплан выглядит более чем странно: едва ли Блерио отважился бы пересечь на нем Ла-Манш. Тем не менее сама идея пользуется успехом, все радостно улыбаются.
В толпе с важным видом бродит муфтий, облаченный в новый тюрбан и старые свои башмаки с резинками; возле него я замечаю Хойла и генерала Гигантиса. Они купили каляурию — хлеб, испеченный в форме колечек [91], — и у каждого теперь висит две или три на запястье, как браслеты. Хойл ораторствует, размахивая свободной, без колечек, рукой, галстук-бабочка в горошек сбился за ухо, полы расстегнутого пиджака болтаются. Если я что-нибудь понимаю в характере человека, я бы сказал, что он рыскает в поисках ям-жаровен, над которыми сейчас уже шипит с десяток овец и не один целый бык. Однако они находятся вне поля его зрения, на склоне у меня за спиной. Здесь жар прожег большую мерцающую дыру в атмосфере, поскольку угли раскалены докрасна. Среди тех, кто крутит вертела, я с удовольствием узнаю рабочих типографии. Раздевшиеся до пояса, они стоят на коленях у ям, озабоченно переговариваясь и время от времени чуть приподнимая вертел или чуть изменяя скорость его вращения. Этих ям около дюжины, они разбросаны неровным полукругом. Над двумя жарятся быки, закрепленные на огромных чугунных прутах, которые поворачивает старомодное заводное устройство с пружиной, какие иногда встречаются на старых английских фермах. Вертел поворачивается с медленным сухим щелканьем, пока пружина раскручивается — процесс, занимающий около трех