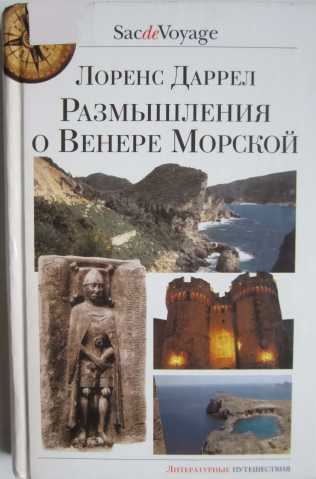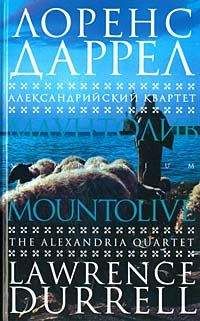часов. В этом уголке шума нет — или совсем чуть-чуть; атмосфера предельно деловая. Все приставленные к вертелам повязали на голову пиратские платки и отдыхают — там, куда не достает жар, ведут серьезный разговор под ритмичное тиканье вертела. Иногда к яме подходит доброволец, прикрывая лицо, он отрезает кусочек мяса; мясо мрачно жует жюри сидящих вокруг головорезов, качая головами и изрекая подходящие к случаю замечания и советы. Время от времени быков поливают соком, тогда слышится чудовищное шипение и в воздух поднимается столб угольной пыли, наполненной запахом жира и крови. «А!» — удовлетворенно восклицают все.
Чередующиеся приветственные крики и аплодисменты на восточной стороне означают, что скачки на мулах окончены, и сквозь облака пыли можно рассмотреть смутные фигуры, поднимающиеся на помост и итого принимающие из рук Бригадира. Они слишком далеко отсюда — речей и тостов не слышно. Из толчеи выныривает Гидеон, он пыхтит, в обеих руках — крутящиеся целлулоидные вертушки. Он плюхается рядом со мной, промокает лоб и шарит по карманам в поисках нуги.
— Неплохо, а? — говорит он. — Здесь тысяч пятнадцать народу. Костас сказал, что автобус Маноли врезался в дерево и им пришлось идти пешком.
Все-таки на свете существует справедливость и зло не остается безнаказанным. К счастью, похоже, никто не пострадал — по крайней мере, сам Маноли в данный момент фотографируется, на обоих коленях — по младенцу.
С подчеркнутой размеренностью начали бить еще два больших барабана, и подо мной на склоне холма начинает формироваться круг танцоров они собираются вокруг группы музыкантов — барабанщика, скрипача, кларнетиста и гитариста, — которые стоят бок о бок, склонив головы друг к другу. Танцоры всегда распределяются именно так, от центра, образуя подобие цветка. Пару мгновений они стоят полукругом возле музыкантов, слушая с опущенными головами и кивая, чтобы поймать ритм; потом начинают медленно, будто не знают, как именно надо танцевать, сложное переплетение движений их ног точно рассчитано, продумано, совпадает с перебором струн. Потом, один за другим, они словно зажигаются от огня вдохновения; и вот уже головы подняты, и вскинутые подбородки словно бы от самых лодыжек тащат вверх торжествующую улыбку, которая озаряет их лица; тайный лад найден. Медленно двигаясь вокруг маленькой неподвижной группы музыкантов, круг начинает задавать ритм, который им, похоже, диктует теплая пыль на земле и лишь в какой-то степени музыка. Через какое-то время и музыканты чувствуют установившийся ритм вращения и тоже поднимают головы с радостным облегчением; мелодия вырывается на волю, подчиняясь лишь мощной приливной волне танца, творимого сотнями ног. А круг тем временем растет, в него вклиниваются новые танцоры, прилаживаясь к ритму мелькающих ног своих соседей без малейших усилий, так зажигаются друг от друга свечи. Скоро весь этот организм начинает жить своей жизнью, поглощая индивидуальность каждого, кто его составляет, принуждая вместе с остальными кружиться и кружиться вокруг полого, но полного жизненной силы средоточия музыки. Существо, состоящее из танцоров, совершает странные перистальтические движения каламатиано — самого древнего, самого красивого, самого магического из всех греческих танцев. Оттуда, где я сижу, мне не очень слышны высокие голоса скрипок, их синкопированное бормотание; но пряный вечерний воздух содрогается от стука большого барабана, отмечающего каждый аккорд гулким ударом. Хоровод вращается и раскачивается, делается все шире, ибо все новые и новые танцоры поддаются его магическому зову.
Я уже собрался спуститься поближе, чтобы рассмотреть танцующих, но тут мое внимание привлекает новое действо. Судя по всему, сейчас начнется служба в храме, поскольку по сухому бурому дерну шествует небольшая процессия местных жителей, некоторые несут хоругви. Во главе процессии — темные фигуры священников в облачении и высоких шапках. Шагах в десяти перед всеми ними идет маленький мальчик, прилежно звоня в треугольник. Священники, видимо, поют, потому что их губы шевелятся; но толпа так гудит, что их пока не слышно.
Процессия неторопливо приближается к храму, у дверей которого копошится плотная толпа — как пчелиный рой у летка улья. Время от времени ее сотрясают внутренние судороги, и она выбрасывает наружу тех (самых любопытных или больше всех нуждающихся в волшебной помощи святого), кто хочет расположиться перед железной решеткой, загораживающей вход в пещеру. Когда приближаются священники, темная масса толпы распадается на две части, образуя проход, и хрипловатый гул голосов становится громче. Открываются двери, и процессия входит внутрь; я достаточно близко, чтобы услышать, как эхо разносит голоса, усиленные пустым пространством пещеры и водой. Там, где недавно зияла темная дыра, тепло мерцают огоньки свечей; сначала монахи поют в низкой тональности, потом эти мрачные голоса становятся все выше, все пронзительнее. Вопрос и ответ, разделенные полутоном. Из пещерного сумрака иногда долетает аромат ладана, курящегося над водой. Трепет пробегает по толпе. Губы шевелятся в молитве. Все крестятся. С большим трудом я проталкиваюсь поближе к железной решетке. Отсюда хорошо видно, что происходит внизу, в пещере. Облако ладана, поднимающееся от воды, создает ощущение, что из земли бьет кипяток. Но три пожилые женщины, облаченные в белые рубахи, спокойно стоят в ней с покорным унынием; за ними я вижу подростка-дауна, которого держат под руки две старых карги в монашеском облачении. Странное зрелище: они, замерев, стоят в бетонном бассейне, и в белках их глаз отражается мерцающий свет свечей, а вода плещется на уровне бедер. Пение монахов теперь сопровождается сочувственными вздохами толпы — но чем они вызваны: религиозным экстазом или усталостью от жары, понять сложно.
Я чувствую, как кто-то прикасается к моей руке. Это Миллз, пробившийся сквозь толпу, чтобы посмотреть, как работает святой.
— Все они — мои пациенты, — шепчет он. — Посмо-трим, получится ли у старика лучше, чем у меня.
— Материалист, — шепчу я в ответ.
В пещере начались погружения. Из-за плеска воды почти не слышно распевного речитатива священников. Даун, неразборчиво что-то бормоча, протестует, но старые монахини крепко его держат; они втроем падают и начинают барахтаться в углу бассейна.
— Непонятно, чего мы здесь стоим, — произносит хриплый голос. — Чудо совершается на третий день после службы, все знают — никогда, чтобы прямо тут.
Я узнаю мясника-поэта, который однажды читал в моем кабинете эпическую поэму. В одной руке у него пучок зеленого лука, в другой — детская вертушка; он, похоже, немножко пьян.
— По крайней мере, — продолжает он, обнажая зубы в ухмылке, — попы хотят, чтобы мы в это верили.
Несколько человек оборачиваются и шипят, чтобы он замолчал. Этот скептик громко жует лук, состроив насмешливую гримасу. Нынешние деревенские жители считают, что подобное отношение (на самом деле это поза, не имеющая ничего общего с их