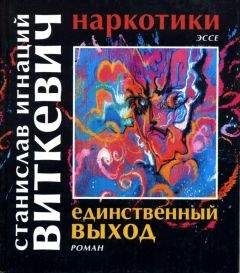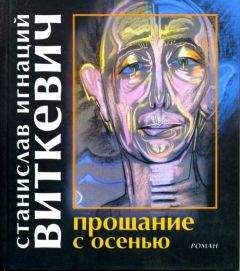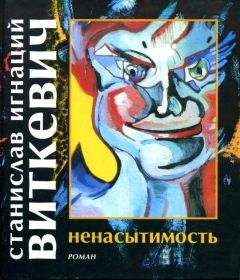Первоначально материал эстетической рефлексии Виткевича — изобразительное искусство. Язык визуальных форм, наравне с языком музыки, для него — ближайшее соответствие сути искусства. Поэзия более сложна; в «поэтической амальгаме» Виткевич различал понятийные, образные и звуко-ритмические ценности, придавая решающее значение понятиям: смыслы здесь — те же «простые качества», что в музыке звуки, а в живописи — цвета и формы.
По аналогии с живописью и поэзией Виткевич рассматривал театр, признавая его наиболее сложным из искусств, поскольку необычайно сложны его «простые качества» — «сами Единичные Сущности, их высказывания и действия». Новации Виткевича в этой области: идеи произвольного сценического становления и метаморфоз, формальной режиссуры, отчужденной игры, метафорической сценографии — оказались универсально значимы, близки развитию театра в XX веке.
Апология искусства — существенный мотив философии Виткевича, устремленной к обоснованию эпифании — мистического озарения, выявляющего структуру мира и личности в полноте их взаимосвязи. В трансцендентном переходе он придавал искусству первенствующее значение. В силу того, что искусство имеет не сиюминутные, а абсолютные цели, он полагал его наиболее человечной, а возможно, и единственной подлинно человеческой формой осуществления личности — противостоящей исторической (биологической) «протяженности».
Биоэстетическая аксиология — фундамент виткевичевской катастрофической историософии и теории коллапса культуры. Воззрения Виткевича на историю телеологичны: социальная гармонизация, по его мнению, неизбежна. Однако, отчуждаясь от созидаемой им утилитарной среды, человек перестал самосознаваться как духовное существо, превратился в статиста истории. Человечество в массе своей отвернулось от абсолюта, утратило ощущение причастности каждого к великому целому природы. «Единичное фактическое тождество» личности вытеснено социальной ролью. Восприятие себя как части необозримой группы стало субститутом индивидуального переживания единства во множестве.
Виткаций не выносил прагматизма, возводящего пользу в высшую ценность, хотя и не оспаривал естественности такого мышления. Считал стремление к «общему счастью» морально оправданным, был сторонником социализации материальных благ, однако опасался, что воплощенный идеал будет противостоять индивидуальной свободе, а значит — истине, добру и красоте, несмотря на то, что их именем прогресс и будет совершаться. Драма рождения новой эпохи, казалось, подтверждает его прогноз, свидетельствуя об исчерпанности прежней культуры. Прогрессирующий упадок духовности лишь не сразу бросался в глаза из-за специфики исторической фазы — бурного теориетворчества и строительства идеологий. О динамике цивилизации Виткевич говорил, как о предсмертных судорогах, признаке надвигающегося краха.
Отмирание индивидуальности для него — дело предрешенное и естественное. Это предстоящий момент, завершение цикла частичных этик, когда «общим счастьем» будет преодолено состояние одиночества. На исходе жизни Виткевич саркастически советует примириться с неизбежностью краха цивилизации в прежнем понимании «как с великой исторической необходимостью». Это кризис, из которого не надо выходить, поскольку кризисы и катастрофы — естественный закон развития, а ход истории необратим. Воззрения Виткация на человеческую общность унаследованы им от отца, наставлявшего его: «Общественное устройство, на которое следует согласиться, должно пойти дальше, чем мечтают нынешние социалисты. На то, что есть и еще долго будет, смотри как на преходящий момент развития. Живи в будущем».
Общественные взгляды Виткевича обеспечили ему при жизни репутацию левого радикала. У него не вызывало сомнений, что либеральный капитализм из «доброкачественной опухоли» превратился в «злокачественный нарост» олигархии. Аналитический ум его, обнаруживая противоречия, ведущие к гибели старого порядка, склонялся к поддержке революции как акта исторического возмездия, «необходимой катастрофы», ускоряющей процесс гармонизации. Единственной силой, способной дать бой «дикому капиталу», представлялся Виткевичу социализм, с его «идеей материального равенства», временно открывающей «новые духовные горизонты людям, которые до сих пор были лишены этого права».
Однако понимал он и то, что революция, пробуждая инстинкты, хоронит идеи. Зная, что, когда старый строй будет сметен обездоленными, за этим последует экспансия социального примитивизма, Виткевич не мог игнорировать колоссальные противоречия революции. Он видел неполноценность «нового мира», где духовные интересы личности оказались скованы прагматическим эгоизмом масс, жестокостью и корыстью лидеров, самовластием централизованного государства. Видел, как множатся псевдоперевороты и власть перетекает от клики к клике. Видел, каким горем обернулся для народа советский военно-административный режим, и не искал оправданий бесчинствам. И все же его сочувственный интерес к России силен даже в годы, когда на западе многие с ужасом отшатнулись от нее, а заодно и от самой социалистической идеи. Его прогноз на отдаленное будущее — экономически эффективный и свободный от унификации и террора социализм.
Общественно-политическая конкретика мировоззрения Виткевича, как и его эстетические постулаты, производна от онтологической позиции мыслителя. Теоретические труды обеспечили ему место в истории философии, но во многом эти тексты литературны. Виткевич создал систему понятий для описания «границ тайны», однако, понимая, что ни в одной системе нет окончательного знания, сам иронизировал над ней и предпочитал называть ее «онтологической гипотезой». Его концепции можно уподобить мерцающей сфере, меняющей очертания и измерения. Пожалуй, потомки слишком всерьез восприняли ту часть его философии, что изложена в специальных сочинениях. Ведь едва ли не самая существенная ее сторона развернута в художественных образах, где идеи воплощены полнее, чем в теории, а акценты расставлены иначе.
Виткевич-теоретик — скептик. Он создал образ неотвратимого экзистенциального угасания человека, его самоликвидации как существа высшего типа, растворения в жизни «ультра-гипер-супер-экстразаурядной». Его прогноз — пришествие эры духовной стагнации: история человечества завершается, на пороге — история стада. Видение грядущей «бездонной скуки» было для него кошмаром не меньшим, чем призрак кровавых революций и войн. Виткевичем-писателем катастрофа изображена в виде жестоких переворотов, хотя, по его мнению, судьба человечества в конечном счете не зависит от пути, который оно изберет: будь то эволюционная механизация или революция, освобождающая угнетенных. Писатель предостерегает человечество на языке гротеска и антиутопии: ценой прогресса может стать одичание.
Художественным творчеством он и подтвердил, и опроверг свои опасения, многократно их иронически преобразовав и вывернув наизнанку. Текстуальные совпадения с теоретическими высказываниями автора, обильная цитация чужих сочинений и ссылки на знаковые имена отнюдь не означают, что именно этим Виткевич выразил свою позицию. Его точка зрения диалектична, основана на снятии мнимых противоречий. Обратимым переходом эмоционально-смысловых начал в его творчестве создана сложная, развивающаяся картина действительности. Пародируя в драмах и прозе собственные отвлеченные «умствования», он освобождался от них. Идеи — свои и чужие — для Виткевича — подвижные элементы художественной структуры, подчиненной только правде формы. Потому что все-таки он был прежде всего художником.
На рубеже 30-х годов писатель оказался в сложнейшем психологическом и материальном положении. Жена — Ядвига Унруг — после пяти лет совместной жизни остается его преданным другом и даже делит с ним кров, когда он зимой переезжает к ней в Варшаву. В то же время развиваются его мучительные отношения с последней любовью — Чеславой Окнинской (той, вместе с которой он в конце концов сведет счеты с жизнью; она чудом останется жива и много лет спустя умрет, попытавшись отправиться к месту его гибели).
Пьесы Виткация к тому времени почти не идут, книги не расходятся. Он бросается в журналистику — впервые начинает зарабатывать пером. «Трактатец» о наркотиках как причине упадка личности — безуспешная попытка добиться кассового успеха, — как он и опасался, укрепила его дурную славу; ее учительный пафос остался не воспринят на фоне одиозности темы. Вторая книга-эссе, посвященная гигиене духа и тела, «Немытые души» (1936), где деградация человечества рассмотрена в социально-психоаналитическом аспекте, осталась неизданной.
«Наркотики» — крупнейшая из работ Виткевича о столь важной для него материи. «Отчет о действии пейотля» позволяет заглянуть в мастерскую автора, позднее переработавшего и уточнившего наркотические «сенсации». В очерке «О наркотиках» Виткаций, популяризатор здорового образа жизни и воспитатель нравственности, дал краткий дайджест своих воззрений на предмет. Все эти тексты знаменуют собой завершение кризиса литературного вымысла и переход к абсолютной, почти внехудожественной риторике, произведениям словно нарочито антилитературным, перетекающим в публицистическое и наукообразное словостроение.