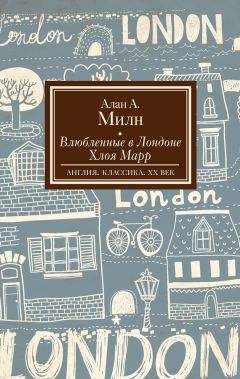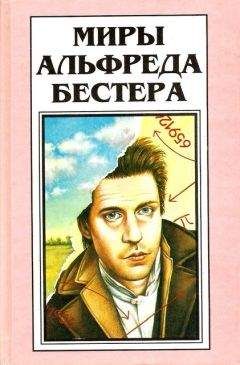Так сообщил мистер Джон Поуп Феррьер Нашему Театральному Корреспонденту, на что Наш Театральный Корреспондент откликнулся довольно равнодушно: «Верно, старина, так верно. Что вы там говорили?» – и пересказал своим читателям. Некоторые возможно даже поверили.
Но не Клодия. Неверно было говорить о «полной» лондонской труппе Уилсона Келли. Талантливая молодая актриса, сыгравшая Зеллу, осталась в Лондоне. Она решила бросить сцену.
Выбор между женской любовью и женской карьерой, на который пошло столько тысяч метров кинопленки, не слишком долго ее терзал. Выбирая между своим искусством, с одной стороны, и штопаньем носков мужа, пока он читает ей вслух свою новую пьесу, – с другой, Клодия мешкала не более минуты, той минуты, в которую ее посетило вдохновение, нарисовавшее ей, как она будет ставить эту новую пьесу. Она прославится как Великая Постановщица, и известные драматурги со всего мира будут умолять, чтобы она взяла их пьесы, а она будет отвечать: «Извините, но я ставлю только пьесы моего мужа». Возможно, она сделает исключение для Бернарда Шоу, если он напишет что-нибудь столь же удачное, как «Святая Жанна», но для этого он, пожалуй, уже староват. «Постановка Клодии Лэнсинг» – и, конечно, газетные сплетники напомнят читателям, что на самом деле она миссис Кэрол Хиггс и ставит только пьесы своего мужа. Замечательно будет!
Если бы не Хлоя, она все еще училась бы в Академии и пила чай с Гербертом Поттером! (Она, возможно, даст Герберту малюсенькую роль в следующей пьесе Кэрола.) Дорогая Хлоя! Дорогой Кэрол!
В воскресенье Кэрол повез ее в высокий дом на Портмен-сквер, где жил с тетушками.
Тетушек было четыре. Тетя Гарри и Тетя Джо были близнецами. Тетя Джо родилась на пять минут раньше, и вот уже шестьдесят пять лет тетя Гарри это оспаривала. А поскольку в живых не осталось никого, кто был бы свидетелем или находился в пределах слышимости их появления на свет и поскольку та, что родилась первой, давно уже потеряла любой значок первенства, какой ей когда-то могли повязать, тетя Джо мало чем могла ответить на инсинуации сестры, помимо: «Перестань, Гарри, ты же знаешь, что это неправда». Первоначальной теорией Гарри было, что доктор нашел ее под тем кочаном капусты, к которому подошел первым, и положил ее в свой докторский саквояж, а несколько минут спустя нашел Джо под другим кочаном. Естественно, когда он пришел в дом и раскрыл саквояж, тетя Джо оказалась сверху и появилась первой, а потому все решили, что она старшенькая. Это казалось логичным объяснением возникновения подобных ошибок, и временами такие аргументы могли поколебать тетю Джо. Позднее, когда им стали известны реалии жизни, тетя Гарри изменила стиль атаки. С равным отсутствием логики она теперь утверждала, что кормилица встала среди ночи и поменяла ленточки, по которым различали близнецов.
– Ты же знаешь, что это неправда, Гарри, – слабым голосом отозвалась тетя Джо, а тетя Гарри возразила:
– Откуда мне знать? Всем известно, что кормилиц постоянно подкупают, чтобы они подменили ребенка. Из-за порядка наследования недвижимого имущества. Ха, да достаточно только на нас посмотреть, сразу видно, что я гораздо, гораздо старше.
– То есть толще? – парировала Джо. – И вообще пять минут не такая уж разница.
А Гарри мрачно ответила, что это не просто пять минут, а Пять Минут с большой буквы, которые решают Все.
Теперь обеим стукнуло семьдесят. Убеждение тети Гарри, что она старшая, нисколько не поколебалось, но бывали времена, когда истина представала ей в ином обличье: это ведь ее всегда принимали за старшую, признавали старшей, а Джо распускала нелепые истории про подменышей. Тетю Джо это потрясло: ей более чем когда-либо казалось, что ее ограбили, но она не знала, что у нее отобрали. По сути, старшинство мало что значило. Они вместе вели хозяйство: тетя Гарри, как более властная, контролировала и выгоняла прислугу, а Джо, как более методичная, контролировала и вела счета. Когда вдалеке начинала маячить угроза, они взывали к тете Эми.
Все любили тетю Эми, потому что она была в семье красавицей. Был один день, оставшийся в памяти всех сестер, ее двадцать первый день рождения, когда молодой человек на дипломатической службе по фамилии Сауербатт был на волосок от того, чтобы просить ее руки. На семейном празднике в тот вечер его посадили рядом с Эми, и члены семьи постарались занимать друг друга разговором, делая вид, будто не замечают будущую счастливую чету, и предоставив влюбленным шептаться о том, о чем шепчутся, оставшись наедине, влюбленные. Внезапно, как это иногда случается, в общем разговоре повисла случайная пауза, и в полнейшей тишине раздался ясный и чистый голос Эми.
– Скажите, мистер Сауербатт, – зазвенел голосок, – вы верите в непорочное зачатие?
Растеряв всю свою дипломатичность, мистер Сауербатт вспыхнул как маков цвет. Эми удивленно посмотрела на него, посмотрела на шокированные лица родных и побелела как полотно. Семейство поспешно заболтало и загудело, рьяно делая вид, что никакой паузы не было, что ужасные слова не были произнесены.
Сидевшая слева от мистера Сауербатта Гарри спросила, занимался ли он дипломатией в Бродстейрсе, и громко заявила, что по части дипломатии нет ничего лучше Бродстейрса. А мистер Стеннеринг справа от Эми, запинаясь, распространялся о престранном происшествии, о котором читал третьего дня, по сути, дескать, это просто из ряда вон… и как такое взять в толк… но сперва, наверное, надо объяснить, что он торгует оптовыми партиями одежды. Едва позволили приличия, леди поднялись, чтобы перейти в гостиную, причем Эми по знаку матери сразу отправилась к себе. Тем временем в столовой мистеру Сауербатту предоставили привилегии тяжелобольного, имеющего право сколько душе угодно наливаться старым портвейном и не отвечать на заковыристые вопросы.
Главе семьи (мы назовем его Дедушка Хиггс) так всего как следует и не объяснили. Такие темы, как религия, роды и секс, представлялись Дедушке Хиггсу равно шокирующими. А ужасающее и кощунственное упоминание всех разом да за обеденным столом юной девушкой, которой и понятия о них не положено иметь… то есть ни малейшего понятия, как такая мысль вообще могла зародиться у его дочери… она хоть понимает, что на самый неподобающий для молодой леди манер просила гостя разродиться… нет, такую мысль уже в зародыше следовало бы подавить! Спрашивать гостя, христианин ли он!
– Я не спрашивала, папа! – рыдала Эми. – Это никак не подразумевало…
– Не подразумевало что?
– Не… не подразумевает то, что, ты думаешь, оно подразумевало…
– А что, скажи на милость, ты думаешь, я думаю, оно подразумевало?
Так могло бы продолжаться до бесконечности, если бы его жена (мы будем звать ее Бабушка Хиггс) не отвела мужа в сторонку и не зашептала ему на ухо.
– Кто это сказал? – разобиженно заворчал Дедушка Хиггс.
– Эми говорит, что прочла про это в одной книге, в религиозной книге, которую мистер Мэнли подарил ей на день рождения. В конце концов, он ее крестил, и он же проводил над ней обряд конфирмации, он не выбрал бы дурную книгу… а она случайно в нее заглянула перед обедом и так была удивлена, что невольно задумалась, а знает ли это еще кто-нибудь…
– Об этом я и говорю, Эмили. Нам совершенно незачем вдаваться в подробности того, кто во что верит. Зачем оскорблять…
– Они не оскорбляют! – вскричала Эми. – Я никого не оскорбляю!
– Ты не оскорбляешь? – с ужасом переспросил Дедушка Хиггс. – Ты хочешь сказать, что моя собственная дочь…
– Вероучение папистов, – предостерегла украдкой Бабушка Хиггс.
– Я как раз о том и говорю, – бдительно подхватил Дедушка Хиггс. – Либо этот молодой человек римский католик, либо нет… Думаю, тут ты снизойдешь до согласия?
– Да, дорогой, – сказала Эмили.
– Отлично. Если он взаправду католик, то оскорбление – спрашивать у него, верит ли он в то, во что верят все католики. А если он не католик, то оскорбительно намекать, что он верит в то, во что не верит ни один протестант. Так и так это оскорбление. – Зажав в кулак бороду, он подвел итог: – Кощунственное оскорбление с гадким привкусом секса.
Это положило конец роману Эми. Ей следовало бы найти утешение в религии, но почему-то она не сумела, возможно, решив, что та уже принесла достаточно бед. С того дня она замкнулась в себе. Она не была несчастна, ибо происшествие сделало ее предметом интереса родственников и знакомых – такое никогда не делает женщину несчастной. Родители следили за ней, исполненные дурных предчувствий, сестры – с наполовину испуганной, наполовину зачарованной надеждой, и все ждали, что еще скажет Эми. Она нашла, что проще вообще ничего не говорить. Когда другие говорили, она загадочно улыбалась про себя, как улыбается Мона Лиза.
Теперь она увлеклась вязанием. Когда к ней взывали сестры, она опускала вязанье на колени, снимала очки и с приятной скромностью спрашивала: «Но, дорогая, что я-то думаю, ты знаешь?» И все понимали, что перед ними поборница глубокой, но неортодоксальной философии, которая внесла бы самоочевидный вклад в любой симпозиум. К несчастью, слишком поздно было спрашивать у Эми, в чем заключается эта философия, – вопрос следовало бы задать лет тридцать назад. А потому никто и никогда не знал, что она думает, и каждая сторона в любом споре могла утверждать, что она на ее или на их стороне.