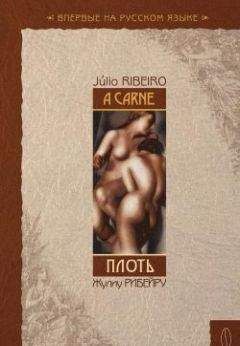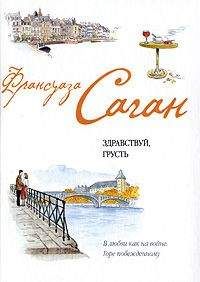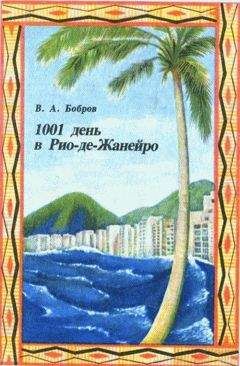На помосте, с ногами в колодках, укрытый старым, грязным, изодранным бурым одеялом, спал на спине беглый раб.
От колокольного звона он проснулся. Схватившись обеими руками за колено, он сел, потянулся всем своим затекшим телом и снова лег.
Дверь отворилась, и вошел управляющий в сопровождении двух метисов, которые поймали беглеца.
–?Ну, парень! – крикнул метис.– Сейчас будет тебе и кофе, и шоколад, и все, что угодно. Всыплю тебе как следует. Полсотни горячих тебе положено, чтобы бегать неповадно было. Ты что, не знаешь, что от этого убыток хозяину? Сейчас я тебя этой плеточкой всего разукрашу!
И он свирепо потряс плетью – этим мерзким, гнусным, отвратительным орудием, зато простым и в обращении и в изготовлении, когда берется полоска сыромятной кожи пяди в три длиной и в два пальца шириной, разрезается вдоль, но не до конца ни с одной, ни с другой стороны. Замачивается в воде, затем отжимается и прибивается гвоздями для просушки. Когда кожа как следует затвердеет, она с одной стороны крепится к рукоятке, а с другой стороны надрезается перочинным ножиком, чтобы получилось два хвоста. Вот и все.
Управляющий разомкнул колодки, и несчастный негр поднялся, дрожа всем телом. Лицо его перекосилось от страха. Он рухнул на колени, воздел руки к небу и сложил узловатые пальцы в умоляющем жесте.
Это была крайняя степень падения человека, когда им овладевает чисто животный страх. Он внушал одновременно и сострадание, и отвращение.
–?Ради Бога, клянусь святым Бенедиктом, больше не убегу!
И он разрыдался от отчаяния.
–?Не шуми, парень,– отозвался управляющий.– Хозяин велел – значит, так нужно.
–?Позовите хозяина!
–?Хозяин спит, нельзя его беспокоить. Покончим с этим. Спускай штаны и ложись.
–?Пресвятая Богородица, спаси меня!
–?Богородицу призываешь, а сам удрать хотел! – нетерпеливо крикнул метис.– Давай, давай – скорее покончим с этим.
Несчастный оглядывался по сторонам, словно ища лазейку. Но укрыться было негде, и он смирился. Дрожащими руками он медленно расстегнул грязные штаны, упавшие к его щиколоткам и обнажившие тощие ягодицы, и без того уже густо испещренные рубцами. Метис встал слева, чуть поодаль, слегка наклонился, отставил назад левую ногу, взмахнул плетью справа налево – быстро, сильно, но не напрягаясь, умело, искусно, элегантно, как профессионал, обожающий свое дело.
Два жестких, крепких, звучных ремня со свистом впились заостренными концами в кожу беглеца. Две белесых полоски с неровными краями образовались на лиловой коже правой ягодицы.
Негр испустил ужасный вопль.
Плеть мерно вздымалась и со свистом опускалась, облизывая и рассекая голое тело. Появились первые капли крови, словно жидкие рубины, потом они слились в ручейки и потекли на пол.
Негр извивался точно уж на сковородке, впивался ногтями в земляной пол, мотал головой, кричал и выл.
–?Раз! Два! Три! Пять! Десять! Пятнадцать! Двадцать! Двадцать пять!
На минуту палач остановился, но не для того, чтобы отдохнуть – он ничуть не устал,– а для того, чтобы продлить удовольствие. Так завзятый чревоугодник не спешит употребить изысканное лакомство.
Он перешагнул через негра, встал в другую позу и принялся махать плетью в противоположном направлении, нанося удары по другой ягодице.
–?Раз! Два! Три! Пять! Десять! Пятнадцать! Двадцать! Двадцать пять!
Вопли негра стали хриплыми и сдавленными. Его курчавые волосы были перепачканы землей, которая от пота превратилась в липкую массу.
Метис положил плеть на помост с колодками и произнес:
–?А теперь польем рассольчиком, чтобы покрепче запомнил.
И, взяв из рук управляющего заранее припасенный тыквенный сосуд, он вылил содержимое на истерзанную плоть.
Негр выгнул спину, словно кот. Из его глотки вырвался сдавленный рев, в котором уже не угадывалось ничего человеческого, и он потерял сознание.
Лениту всю трясло от наслаждения. Она побледнела, глаза метали молнии. Ее била лихорадка. Жестокая, ледяная улыбка кривила ей рот, обнажая ослепительно белые зубы и розовые десны.
Свист плети, корчи и крики истязуемого, струйки крови опьяняли ее, сводили с ума, доводили до неистовства. Она нервно ломала руки и притопывала ногами. Словно весталке на гладиаторских играх, ей хотелось повелевать жизнью и смертью; хотелось продолжать истязание, покуда жертва не лишится жизни; хотелось дать знак большим пальцем – pollice verso![4] ,– чтобы поверженного добили.
Она вся дрожала от неведомых прежде ощущений, от болезненного сладострастия. Вот рту она чувствовала привкус крови.
Вот уже почти неделю безостановочно лил дождь. Кроны воспрянувших, налитых живительным соком, чисто вымытых лесов отяжелели от воды. Густой ковер палой листвы, покрывавший почву в лесах, намок и, разбухая, постепенно превращался в перегной. Обнаженная земля на дорогах, раскисшая, зеленоватая на откосах и на обочинах, пропаханная тележными колеями, измятая, разрыхленная копытами вьючных животных, где-то вздыбливалась, словно взбитая грязевая перина, а где-то скрывалась под лужами мутной от глины воды – кое-где желтой, а в иных местах кроваво-красной. Со склонов стремительно неслись бурлящие ручьи, разлиновывая поверхность земли как тетрадный лист; широко разливаясь, они омывали и освежали корни злаков на целинной земле. Поля превратились в болота, болота – в озера.
В саду ветви апельсиновых деревьев поникли под тяжестью влаги; кешью, сливы, манговые и персиковые деревья наливались жизненным соком, а листья на них ярко блестели. Темное небо низко нависло над землей. Разлившийся ручей бурлил и журчал.
Ленита печально сидела в гамаке, по-китайски скрестив ноги и зябко кутаясь в шаль. Большую часть суток она проводила за чтением. Казалось, ей ни до чего не было дела.
Иногда она задумывалась о душевных и телесных переменах, произошедших с ней на фазенде, где не нашлось девушки ее возраста и ее уровня, которая могла бы ее выслушать, понять, дать совет и хоть немного успокоить ее расстроенные нервы. Она пыталась анализировать истерический срыв, эротические фантазии и вспышку жестокости. Размышляла о своем иссушающем душу унынии, соседствующем с необъяснимыми желаниями. Ей самой было удивительно, отчего она так часто помимо воли думает о полковничьем сыне – мужчине уже зрелом, женатом, которого она к тому же никогда не видела; она чувствовала, что у нее начинает учащенно биться сердце, когда в ее присутствии говорили о нем. И делала вывод, что ее подтачивает какой-то неисцелимый недуг.
Потом она переменила мнение: это была не болезнь, не патология, а просто физиология. Ее, точно острый шип, язвил зов пола, голос плоти, требовавший, чтобы она заплатила дань любви, объявляющий о ее плодородии и о возможности увековечить себя в потомстве.
И она вспомнила о нимфомании, о донжуанстве, обо всех этих мерзостях, которыми природа наказывает самцов и самок, нарушающих ее законы, сохраняя непосильную девственность; вспоминала о священном ужасе, который наводила на греков и римлян Венерина кара. Словно в тумане, проносились перед ее мысленным взором греческие менады, римские весталки, восточные одалиски, христианские монахини – бледные, бьющиеся в судорогах, с искусанными в кровь губами, с горящими глазами, извивающиеся в страстях в лесу или на одиноком ложе, обезумевшие, озверелые, истерзанные шипами вожделения.
Ощутимо, как живые, перед нею представали похотливые Пасифая и Федра; Юлия, Мессалина, Теодора и Империя; Лукреция Борджа и российская императрица Екатерина II.
Однажды в комнату к Лените вбежал полковник.
–?Хорошая новость! Приезжает мой мальчик... Что я говорю, он уже давно не мальчик... Возвращается с охоты из Паранапанемы.
–?Ваш сын?
–?Он самый. Я уже успел по нему соскучиться.
–?Что же он не предупредил? Мы бы выслали ему навстречу экипаж.
–?А разве я не говорил, что он чудак? Невтерпеж, видите ли, ему! Настрелял дичи в Риу-Клару и домой заторопился.
–?А как вы об этом узнали?
–?Приехал оттуда один метис. Только что заходил сюда.
–?Вымок, небось, ваш сын – льет ведь, как из ведра.
–?Да ему все нипочем – не привыкать.
–?В котором часу он приедет?
–?Тут шесть лиг пути. Наверняка он выехал после завтрака, часов в десять. Дорогу всю размыло, так что ехать ему часов шесть, а то и все семь. Ты будешь ужинать в обычное время или подождем его?
–?Да подождем, конечно!
Полковник удалился.
Ленита проворно спрыгнула с гамака, побежала в спальню, тщательно причесалась, подняла волосы и заколола на макушке, оставляя затылок открытым. Затянувшись в корсет, она облачилась в мериносовое платье с высоким воротом – очень скромное, но элегантное. Надела ониксовые серьги, брошь, браслеты, обула туфельки с белыми подковками в стиле Людовика XV, низкий подъем которых открывал черный шелковый чулок. На левой стороне груди она приколола две пышные, душистые белые розы.