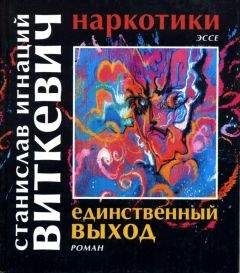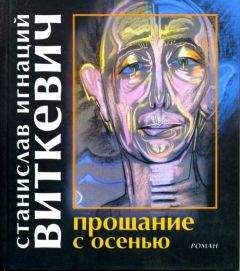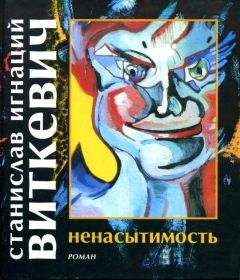С момента возникновения упомянутой композиции (складни) часть пространства воображения затвердела и стала неподвижной: она окаймилась (огранилась — граник = рама) и инкапсулировалась в себе, как зародыш в лоне матери, стала своеобразным однорядом (организацией), уже как бы независимым (незалежным, но это блажь = ложь, лжец, лгун), хоть и подчиненным своеобразным законам дальнейшего развития. Но когда начнутся события, кого тогда волнует психология (духознайство; физика = телознайство; система = связня; материя = теловня или твердовня) творчества, формирования — в директивном значении для «живописи», без смешения этого понятия с возникновением формы в трехмерном пространстве, например, в скульптуре.
Казалось, эта бесценная концепция, единственная из миллиона, которую стоит воплотить (есть что-то невероятное в том, что художник из множества вещей, приходящих в башку, выбирает всегда ту существенную, которая больше всего годится для развития в завершенное произведение, есть в этом что-то несусветное), сгинет в преисподней этой ночи, завершенной жуткой половой оргией с Суффреткой и ее подружкой-лесбиянкой, с которой та совсем недавно рассталась по настоянию Марцелия. Ужасный разврат: загляните, пожалуйста, в Крафт-Эбинга, Шренк-Нотринга (а может, это специалист по духам, черт его знает), Хэвлока Эллиса (можно даже заглянуть под хэвлок[192] — ах, что за шуточка — чувствуется культура Боя и Слонимского) и Хваздрупсена, но даже это не даст представления о том, что творилось тогда на улице Дайвор, потому что нет ничего хуже психологических проблем: ощущение скотского трагизма, мимолетности метафизического свинства, надругательства над украденной у себя же святыней, раздражения, граничащего с убийственным желанием уничтожать, омерзения, возбуждающего до бешенства, до абсолютной отключки, тоски по безграничной вселенной и потерянной чистоте, плевки себе в морду и в чей-то метафизический пупок — все было той ночью, и к тому же в кошмаре своем было раздуто наркотиками почти до таких размеров, как впечатление обычного жизненного одиночества, сведенное к концепции плането-трости, только наоборот. И лишь позже, днем, когда вся гадость и этого света, и того (в смысле — наркотического) навалилась на Марцелия, как какая-то гималайская гора (Канченджанга, Джомолунгма, или Чо Ю? — каково знание, а!), из сумрака ночных воспоминаний вышла та сама-в-себе конструкция, которой он только при дальнейшей ее трансформации, в связи с дополнительными векторными напряжениями частей придал название «Запупяющихся гнембийц», осмеянное позже до ужаса окретинившимися, местными так — несправедливо! — называемыми критиками. Ни одно из слов не вмещало его презрения к этому племени худших сукиных сынов нашей планеты — на все следовало только блевать и срать[193].
Эти кретины высмеивали название во имя «смысла и идеи в искусстве», но не понимали, что если бы сама по себе идея была существенным элементом искусства, то за произведение искусства им пришлось бы признать какую-нибудь «идейную» брошюрку. Было то же самое, что и со «знаменитой» (?) «Каламарапаксой» того самого говнюка Виткация. Это слово, приведенное в качестве идеального примера неологизма с неопределенным, пока что ономатопеическим смыслом, которое может в данном целом (тоже приведенном в качестве примера) иметь чисто художественный = формальный смысл, превращается в органах пищеварения бесчестных критиканалий в упрек, брошенный смыслу его произведений, в основание для того, чтобы нацепить на него ярлык безыдейщика, в то время как сам пример, намеренно, с полным сознанием предлагаемый в качестве компромата на него, выдается за образчик оригинального «творчества». И это делал «сам» Ижиковский! Нечестность, лень, глупость, необразованность — вот главные особенности наших псевдоинтеллектуалов в литературной и художественной критике. К черту все эти проблемы! Воспитанное на интеллектуальной пошлости вульгаризаторов-«мелкунов», подрастающее поколение будет еще ужаснее. (Хоть бы что-нибудь наконец начало происходить, а то со скуки сдохнуть можно.)
Но вот Марцелий дорвался до красок и начал наносить их на громадную (это обязательно) эллиптическую палитру. В сущности, никто в мире не понимает, что такое цвет, никто, кроме нескольких сотен людей, точно так же, как никто, кроме нескольких сот избранных, не понимает, что такое звуки как часть штукотворного целого. «Цвета, цвета, все выцветут когда-то, никто и не подумает, что были», — как пел горец Мардула — любимец элиты польских гомосексуалистов прошлого века. Одновременно Марцелий размышлял о дружбе. Ох, и большое же это дело, в тысячу раз больше, чем любовь (хотя иногда, очень редко, она соединяется с любовью и тогда представляет собой такую высоту, перед которой отступает метафизический ужас Бытия), но чертовски трудное, в той мере, в какой хочется удержать его на высоком уровне правдивости, искренности порывов (= безличинщина или бесскрытщина, маска = скрытка) и благородной жестокости, без тени жалкого недальновидного садизма, этой, видимо, самой отвратительной из существующих на свете вещи, которую люди развили в угоду каким-то тайным, скотским, просто-таки клозетным закоулкам своей души[194]. Однако за этот имеющийся у нас «slice»[195] мозговой коры надо было заплатить страшную цену.
Краски на палитре переливались великолепием радуги: от кобальта и ультрамарина через изумрудную зелень вплоть до лакового багрянца и фиолетового анилина. Собственно говоря, все имело такой вид: ничего себе, приличненькая такая радуга, но статичная и бесплодная. А если без достаточного умения начать добывать из нее слишком сильные напряжения, то вскоре упрешься в непреодолимую стену той же самой Чистой Радуги, и конец. Никакая сила не сдвинет такого ненасытного с места: он заклинивается в абсолютный безвыходник и подыхает, ревя от предельного цветового голода.
В искусстве (а может, как знать, и в жизни тоже) все основано только на отношениях. Опереться на себя, на этот свой наипупейший корень, вспучиться спесью небывалого, просто нечеловеческого, вселенского масштаба, рождая в себе вихрь страстей, переходящий в смертельный ураган, пропустить это через мощный фильтр железобетонного разума и потом со всей этой ужасной, превысившей свою же меру, метафизической напорной башни пописать через узенькую трубочку чистой, холодной, заколдованной в себе формой самой-в-себе — вот это да, «ето тово, понимаш, так называмый «творческий процесс» — во!» — как говаривал Сабала (крестный отец автора).
Марцелий свернулся внутри себя в клубок — с палитрой в руке и пучком кистей — как гад не с нашей планеты. Перед ним на «подрамнике» (или на подсрамнике?), так называемом une toile de trente, то есть средних размеров, тонким угольным контуром уже были намечены общие очертания произведения, которое должно было быть готово к приходу маркиза оф Маске-Тауэра. У этого шутоватого знатока были настоящие «бабки», без которых в наше время так трудно. Как жили англичане, не знал никто: большевизированный король в сговоре с большевизированным папой римским (в один прекрасный осенний день папа босиком ушел из Ватикана, одетый в немного коротковатую посконную рубаху, и на шикарной яхте князя Монте-Фальконе покинул «солнечную», но опостылевшую ему донельзя Италию, чтобы «предпочесть» ей серое существование на скалах «туманного Альбиона». Так писали газеты об этом, тогда уже незначительном факте. Надо было вовремя успеть. Только ни у кого это не выходит) правил кучкой оробевших клетчатых лордов, составлявших английский sownarkom. (ПЗП тоже был такой промежуточной институцией, но в несколько ином стиле — vu les qualités nationales polonaise[196] — но об этом тссс!) Однако у маркиза бабки имелись — это было видно из каждого его жеста — достаточно было взглянуть на официантов «Эйфориала» — они знают все (так же, как и женщины, только в другой области). Им известны структура и состояние бумажника на любой момент, общественная (не равная личной) весомость и наличное состояние жизненных (не интеллектуальных) сил клиента — но даже зная две такие величины, они не могут ничего ни интер- ни экстраполировать, а если б знали их миллион, то никогда не смогли бы обобщить этот материал, у них нет соответствующих формул — такова распроклятая судьба официанта, такова, может, вовсе и не правильная, но удобная теория официантской и женской интуиции — «eine plausible Arbeitshypothese», nichts mehr[197]. Может, ничто в ней не истина, но при прагматическом подходе Марцелий (а может, и сам автор) именно так разрешал проблему неприятно оценивающих его — как néant actuellement accompli[198] — официантских глаз, когда бывал вынужден (иногда) заходить в «приличный» ресторан, чтобы встретиться с кем-то «приличным». (Вообще система, несмотря на то что не носила того названия, была примерно такой же, как в Советской России в 1933 году, да что толку писать об этом — все равно никто читать не станет.)