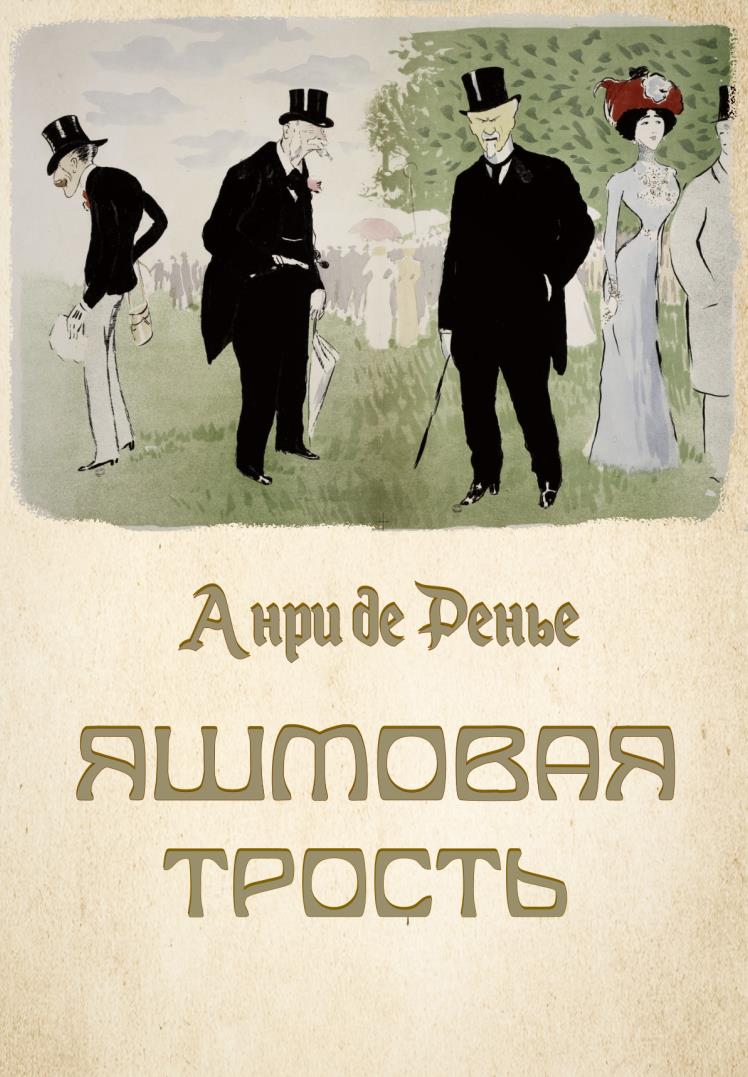темпераментом, был менее всего склонен к любовной дипломатии и неспособен понять, что поведение со мною г-жи де Бюрсэ являлось, быть может, лишь хитростью, имевшей целью еще больше свести его с ума.
Если бы я действительно любил г-жу де Бюрсэ, ее маневры, относительно характера которых я не обманывался, могли бы заставить меня страдать, но мне было безразлично, что я служил козырем в ее игре. Видимый интерес ко мне, который она открыто выказывала, достаточно удовлетворял мое тщеславие. Я не желал ничего большего, и поэтому ничто не мешало мне наблюдать с полнейшим спокойствием гибельную работу, которую производила страсть в г-не де Ровиле, но как ни велика и явна была она, я никак не мог предвидеть событие, которое она подготовляла.
Время шло, и осень подвигалась к концу. Была середина ноября, и большинство гостей замка уехало обратно в Париж. Я собирался поступить так же, и г-н де Ровиль поговаривал тоже о своем отъезде. По мере того как приближалась минута разлуки с г-жой де Бюрсэ, г-н де Ровиль становился все более мрачным и унылым. Он совершал долгие одинокие прогулки по парку и возвращался с дикими глазами и искаженным лицом. Наконец настал последний вечер, который он должен был провести в замке. После обеда г-жа де Бюрсэ нам пела, потом, закрыв рояль, предложила г-ну де Ровилю сыграть с ней в карты.
В то время как они играли, я имел возможность наблюдать за г-ном де Ровилем, и я внезапно почувствовал, что г-жа де Бюрсэ, следуя лишь побуждениям своего кокетства, зашла слишком далеко. Все в г-не Ровиле выдавало страсть, дошедшую до отчаяния: его судорожно сведенное лицо, дрожащие руки, хриплый голос. Было очевидно, что этот человек ужасно страдал, и я испытывал тягостное чувство, что отчасти тоже повинен в его страданиях. Это неприятное состояние не покидало меня все время, пока длилась игра. Когда она кончилась и г-жа де Бюрсэ поднялась с места, г-н де Ровиль продолжал еще некоторое время сидеть за столом, неподвижный и молчаливый, затем схватил колоду карт, стасовал их, смешал и открыл две карты, на которые посмотрел со странным вниманием. После этого он также встал, подошел к г-же де Бюрсе, поцеловал ей руку и вышел из гостиной, не говоря ни слова.
В это мгновение я почувствовал близость несчастья. Г-н де Ровиль, без сомнения, хотел, чтобы эти две вытянутые им карты решили его судьбу. Правда, я был эгоистичным и тщеславным, но я не был злым. Я жалел о том, что помогал г-же де Бюрсэ в ее тактике, истинного смысла которой г-н де Ровиль не угадал. Не было ли моей обязанностью рассеять его заблуждения? Почему бы мне не сознаться ему в том, что я отнюдь не влюблен в г-жу де Бюрсэ? Кто знает, быть может, одного моего слова было достаточно, чтобы вернуть ему надежду, успокоить его, но мне было нелегко сказать это слово. Мое тщеславие противилось этому. Я был только молодым человеком, а г-на де Ровиля его года и положение делали человеком почтенным. Не рисковал ли мой поступок показаться ему смешным и дерзким? И однако же, этот взор, исполненный отчаяния, эти дрожащие руки, этот потерянный вид — не давало ли мне все это права попытаться воспрепятствовать драме, которую я предчувствовал, драме, подготовленной легкими и опасными сетями кокетства г-жи де Бюрсэ?
В Париже я узнал о смерти г-на де Ровиля. В газетах сообщалось, что его тело нашли в какой-то маленькой бухточке на провансальском побережье. Г-н де Ровиль, без сомнения, свалился со скалистого обрыва, где он гулял. Несчастный случай? Самоубийство? Журналы воздерживались от комментариев. Для меня же было несомненным, что г-н де Ровиль, обезумев от любви и ревности, покончил с собой, и ни г-жа де Бюрсэ, ни я не были вполне непричастны к его смерти... И с тех пор я понял, что вещи, которые мы часто считаем безобидными, способны вести к тяжким, даже смертельным последствиям, потому что в жизни нет ничего, что бы не могло вызвать самые неожиданные и ужасные потрясения, — и если мне случается иногда плохо думать о женщинах, то поверьте мне, это не потому чтобы я многим лучше думал о себе...
ВО ВРЕМЯ БРИДЖА
Под действием коммутатора четыре электрические свечи, стоявшие на двух карточных столах, зажглись одновременно. Тотчас разговоры прекратились. Игроки с увлечением устремились к зеленому сукну и заняли места для безмолвного боя, к которому их пригласила г-жа де Гири. Молчание, предвестник «партии», уже сменило воодушевление голосов, которые за минуту до того весело скрещивались в вопросах и ответах. Внезапная серьезность наполнила изящную гостиную, где после обеда, на который г-жа де Гири приглашала раз в неделю немногих избранных друзей, она любила слушать до конца вечера оживленную беседу в дыму восточных папирос или даже сигар хорошей марки. Но на этот раз, в виде исключения, г-жа де Гири предложила сыграть в карты. Такое отступление от правил было вызвано присутствием в Париже ее старого друга, г-на Лекре, который получил отпуск из своего далекого посольства и в качестве дипломата старого закала был большим любителем бриджа пред лицом предвечного... В честь г-на Лекре г-жа де Гири на один вечер восстановила таинственное назначение двух столиков маркетри, гордо, казалось, выставлявших напоказ свои площадки тонкого сукна.
Усевшись глубоко в кресле, с сигарой во рту, Пьер де Вернон утешал себя как умел, терпя это новшество, хотя из-за него он лишался удовольствия, которое доставлял ему всегда разговор г-жи де Гири. Правда, в этот вечер ему не суждено насладиться, слушая, как она говорит о своих ближних с той смесью проницательности и фантазии, которая составляла главную прелесть ее беседы. Но по счастью, можно вознаградить себя созерцанием ее. Далее, Пьер де Вернон не мог не признать, что благодаря присутствию г-на посланника обед был особенно тщательно приготовлен. Кроме того, гостиная г-жи де Гири, даже когда там играют в бридж, всегда место, приятное для глаз.
Таким образом, Пьер де Вернон собирался со вкусом докурить свою сигару и лишний раз поразмыслить о сходстве, подмеченном им, между г-жою де Гири и эскизом Фрагонара, висевшим на стене и изображавшим очаровательную одалиску, усаженную на диван рядом с толстым турком