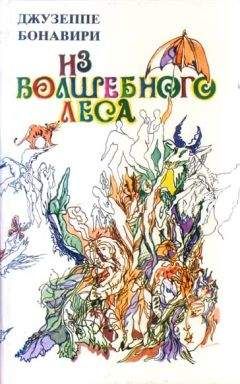Опустившись на колени, словно перед алтарем, мы последовали его примеру.
— Вот спасибо вам, защитнички вы наши! — с набитым ртом приговаривал Чернявый.
Мы вмиг расправились с козлятиной и разодрали на куски обильно сдобренную перцем, запеченную с сыром курицу.
— Прямо благодать господня! — причитал Чуридду. — Умереть можно от одного запаха!
— От еды не помирают, — оборвал его Золотничок.
Осел ждал нас у дороги, с шумом вдыхая ночной воздух.
— Ишь ты, учуял, скотина, — догадался Кармело: в кузне у отца он успел хорошо изучить повадки животных. — А ну гляди, что сейчас будет!
Он схватил два калача, швырнул их вниз, они покатились, увлекая за собой камни и множась, будто по мановению волшебной палочки.
Осел на лету поймал один калач и впился в него зубами. Видно, оголодал еще больше, чем мы. Однако пришлось отогнать его камнями: ведь случись кому-нибудь пройти мимо, и осел бы нас выдал.
На деревенской церкви зазвонили колокола.
— Полночь бьют! — спохватился Нахалюга. — Мы что, до утра будем тут обжираться?
На горизонте вдруг словно заполыхало зарево, рассыпав над верхушками деревьев оранжевые искорки. Мы остолбенели: никогда еще не видали мы такой огненно-кровавой зари.
— Не пойму, лес, что ли, горит? — сказал Чернявый.
— Это возле Виццини, — определил Кармело.
Мне тоже почудился запах гари; пока я раздумывал, что бы это могло быть, Чернявый затрещал прямо мне в ухо:
— Да нет, какой там лес! С чего бы ему вдруг загореться? Это война, как же мы забыли!.. Бьюсь об заклад, там идет сражение.
— Стреляют, провалиться мне на этом месте! — подтвердил Золотничок. — Слышите? Где-то возле Минео.
Мы прислушались: не разберешь, то ли лес шумит, охваченный пожаром, то ли просто ветер завывает.
— Ха-ха-ха!
Мы все как один повернулись к Чуридду.
— Чего ржешь-то?
— Да над вами! С жиру вы беситесь, вот что. Далась вам эта стрельба, когда у нас еще столько жратвы!
— А война? — опешил Нахалюга.
— Хрен с ней, с войной! — весело подмигнул нам Чернявый. — Брюхо набили — до остального нам дела нет.
И мы снова стали поглощать хлеб, колбасу, инжир и прочие яства. До того наелись, что еле языками ворочали. А в ящиках и корзинах оставалась еще добрая половина провизии. Порешили все это спрятать здесь, под гулкими, мрачными сводами пещеры, а назавтра вернуться и продолжить пир. Спустившись в деревню, мы разошлись кто куда. Я и Золотничок направились по длинной притихшей улице к церкви Святой Марии, все еще утопавшей в зное.
Проснулся я поздно. Надо мной стояла мать и читала мне проповеди, молитвенно сложив руки.
— Что ж ты делаешь, сынок? Отец пятый год воюет за вас в Абиссинии, тебя заместо кормильца оставил, а ты где-то шляешься до поздней ночи!
Я согласно кивнул и начал одеваться. Но стоило матери выйти в другую комнату, откуда доносились крики моих сестер, не поделивших кусок хлеба, как я шепотом попрощался с ней и выскользнул на улицу. На паперти ни души. Я спустился по проулку, на ходу жуя хлеб, смоченный в уксусе, и оглядываясь по сторонам. Куда же они все запропастились? У дома Яно Фунджи я наткнулся на Зануду.
— Ах ты гад! — приветствовал он меня. — Надо бы тебе всю морду разбить. Из-за тебя моя шайка разбежалась.
— Чем я виноват, если им надоели твои дурацкие игры?
— А ну подойди, сука, я из тебя котлету сделаю!
Я схватил камень и крикнул:
— Только попробуй, убью как собаку!
Старая Катерина Ла Тариола замахнулась на нас палкой.
— Угомонитесь, идолы окаянные! Мало вам, что отцов на войне убивают?
— Еще встретимся! — пригрозил Джованни и пошел прочь.
За околицей тоже никого не оказалось. Я уж было совсем приуныл, но тут услышал откуда-то сверху негромкий свист.
— Мы здесь, разуй глаза-то.
Чернявый, Агриппино и Чуридду съезжали на задницах с крутого склона, подымая пыль и обдирая штаны об эти чертовы колючки.
— Мы к фашистам, — сообщил Чернявый. — Идешь с нами?
— Вы что, психи? Про вчерашнее забыли?
— Да ты же ничего не знаешь! Нынче утром Салеми нас встретил на площади и давай обнимать. Молодцы, говорит, что сбежали с ослом. Солдаты, мол, нас предали, испугались американцев. Когда американцы придут, вы уж не забудьте, как мы вас накормили.
— Вот собака! — взорвался я. — Чует, что теперь ему крышка, и готов на брюхе ползать. Только вы как хотите, а я к фашистам ни ногой.
— Ну и оставайся.
Что ты будешь делать с этими олухами! Благодарение судьбе, зловещий дом на площади был заперт.
— Не надо! — в последний раз попытался я остановить Агриппино и Чуридду, когда они подошли к двери.
Тут подоспели запыхавшиеся Нахалюга и Карлик.
— Стойте, стойте! Слыхали, под Катанией немцы перешли в контрнаступление?
Дверь дома отворилась, и чья-то рука, высунувшись, ласково поманила нас внутрь.
— Заходите, не тушуйтесь!
Нам ничего не оставалось, как войти.
— Ага, попались! — загоготал Брачилитоне.
— Всыпьте-ка им по первое число, — приказал Пирипо, зеленый от злости. — Они думали, американцы победят. Рано обрадовались, змееныши!
Брачилитоне и Коста сняли длинные ремни и сложили их вдвое.
— А ну-ка идите сюда!
— Уж я их отделаю, — пригрозил Рачинедда и приготовился дубасить нас палкой.
Мы вжались в стену. Чернявый схватил кий с бильярда, а Нахалюга вытащил перочинный ножик. Раз так, будем драться до конца. Я тоже наставил острие ножа на медленно приближавшихся к нам фашистов.
— Сейчас мы вам покажем, как чужую колбасу жрать, — брызгал слюной Рачинедда.
Нас выручил негромкий стук в дверь.
— Откройте, это я, Маргароне.
На Маргароне жалко было смотреть.
— Есть новости, — выдавил он из себя и показал взглядом, чтоб нас убрали из комнаты.
— Докладывайте, — распорядился Пирипо. — Эти маленькие изменники родины все равно в наших руках.
— Американцы уже у Никкьяры. Тури Папó мне сказал. Он самолично с ними разговаривал, недаром же двадцать лет в Нью-Йорке прожил.
Воцарилось гробовое молчание; фашистам явно стало не по себе: кто побагровел, кто сделался белым, как полотно, у кого на лбу выступил холодный пот. Так вам и надо, паскуды!
— Вспорем им брюхо? — предложил Нахалюга.
— Ты что, обалдел? — прошептал Чернявый. — Спрячь нож и помалкивай. Поглядим, что дальше будет.
У Рачинедды палка выпала из рук, а штаны, по обыкновению, сползли ниже пупка. Пирипо весь переменился в лице — куда девалась презрительная мина, — почернел, как сарацин, от страха и втянул голову в плечи. Брачилитоне и Коста выронили свои ремни. А Салеми беспомощно переводил взгляд с портрета короля на портрет дуче, которые теперь казались грязными пятнами на стене.
— Мужайтесь! — нарушил наконец молчание учитель. — Роковой миг настал. И кто вверг нас во все эти беды? Они, вот эти двое!
Гневно тыча пальцем в портреты, он разразился потоком страшных проклятий: обзывал дуче и короля ослами, чудовищами, исчадиями ада, посланными на погибель людям.
— Вон, уберите их вон!
Рачинедда вдруг вспомнил про нас.
— Это была шутка, милые, разве я кому позволю вас хоть пальцем тронуть? Да ни за что! Таких умных деток… Запомните, вы у меня дома всегда будете желанными гостями.
— Лестницу принесите! — сказал приходский священник Скрофани, до сих пор не произнесший ни слова.
— Где ее взять-то? — возразил Брачилитоне. — Стол давайте подставим.
Учитель Салеми бросился к бильярдному столу.
— Ну помогите же мне кто-нибудь!
Вместе с Брачилитоне они подтащили стол к стене. Брачилитоне взобрался на него, но портреты висели слишком высоко.
— Как же, достанешь до них! — буркнул он.
Ему подали еще стул, но без толку! Снизу фашисты растерянно глядели на него: голова у них, видно, шла кругом.
— Что же делать-то? — со слезами в голосе твердил Рачинедда.
— А мы на что? — вылез Чернявый.
— Только попробуй, прирежу как собаку, — пригрозил Нахалюга.
Но Чернявый в ответ только прищурился, и мы поняли: он что-то замышляет.
— Говори, сынок, говори, что придумал! — обрадовался Рачинедда.
— Влезу кому-нибудь из вас на плечи — и готово дело.
— Давай, — сказал Коста, — полезай. — И, согнувшись, подставил Чернявому спину.
— Нет, — объяснил Чернявый, — так мне не достать. Они ведь под самым потолком висят. Надо бы повыше кого. Вот вы подойдете. — Он ткнул пальцем в секретаря.
Пирипо и впрямь был из них самый длинный. Все взгляды устремились на него, он переменился в лице и скрипнул зубами.
— Ну, решайте, — добавил Чернявый. — Время не ждет.
Фашисты сверлили глазами своего главаря, но заговорить никто не осмеливался.