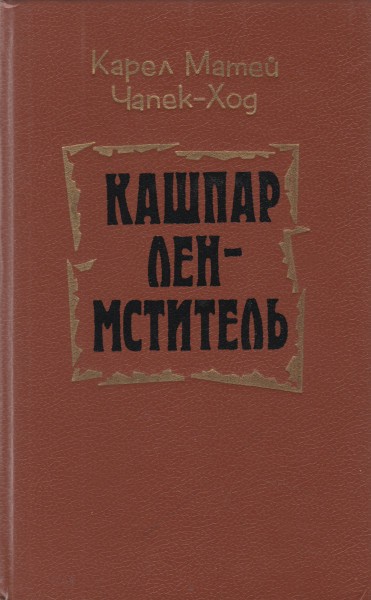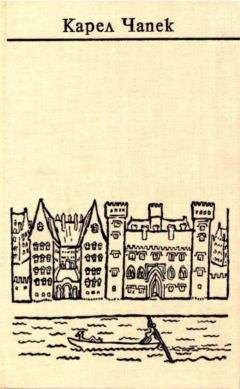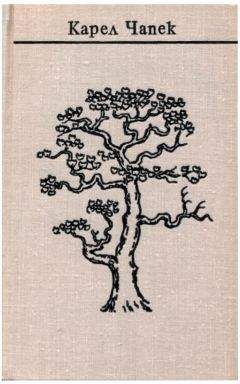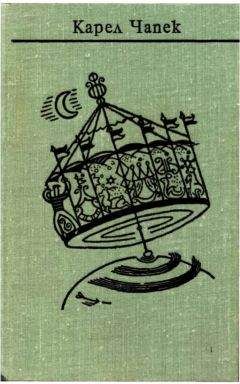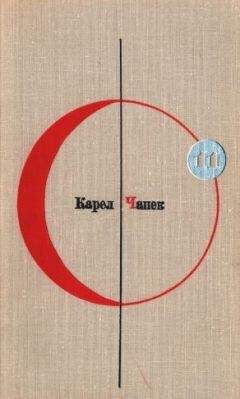как раз набились погребальщики, ехавшие с каких-то пышных похорон, в головном же было пусто, но Коштял и не думал заменить напарника. Оба уперлись, и трамвай так и не двинулся с места, пока кондуктор не обслужил билетами всех погребальщиков. Дальше последовали свара, рапорт, и Коштял, хотя и не нарушил правил, получил нагоняй за нетоварищеское поведение, тем более выяснилось, что все то время он сидел сложа руки, а это и вовсе выглядело чуть не преступлением.
— Каждый пусть занимается своим делом, я и так весь день ишачил, на ногах не держусь, — защищался Коштял.
— Допустим, — отрезал в ответ контролер, — но обычно вы на ногах не держитесь совсем по другой причине.
Такие случаи исчислялись десятками, и пристало ли Коштялу пенять на то, что сослуживцы его любили не больше, чем начальство?
Но если контролеры Коштяла не жаловали, то совсем по-другому относились к нему кондукторши, то бишь жены кондукторов. Когда они везли мужьям обед, почти все старались ехать с Коштялом, пусть даже, чтобы подсесть к мужу, пришлось бы пропустить два трамвая. И если супруг удивлялся, почему это жена не поджидала его, как обычно, у церкви, та отговаривалась, мол, у Коштяла были места, да и обедать он все равно станет не раньше, чем приедет на стоянку к белильне, а она уже тут как тут, сидит и ждет на меже.
Иногда к Коштялу пристраивались сразу три женушки, и даже самая невинная из них безо всяких угрызений совести подсаживалась в его трамвай, когда муж как раз ехал во встречном, а третья присоединялась к двум первым за компанию. На самом деле всех троих приманили туда Коштяловы усы. Но что особенно способствовало его успеху, так это равнодушие к женщинам, хотя он и не прочь был позубоскалить с ними. Адонис он был своеобразный, его самолюбие вполне удовлетворялось тем, что женщины липли к нему как мухи к меду, но он был не из тех, кто готов отдать себя мухам на съедение.
Женщины всегда шалабольничали с ним, и ему приходилось чуть ли не силой шугать их с площадки — сами-то они не торопились слезать даже у белильни, пригородной стоянки в лугах, где трамвайщики частенько задерживались минут на пяток сверх положенных им на обед пятнадцати.
Коштял вел свой трамвай строго по расписанию, и у него единственного с этим было все в порядке, тютелька в тютельку. По сему поводу даже случались свары, потому что Коштял так наседал на опаздывающего, что на следующую, а то и на третью станцию они прибывали впритык.
Из-за своего норова он наконец и сломал себе шею. Произошло это на стрелке у парка; трамвай, с которым ему надо было разъехаться, остановился, пропуская его вперед — вразрез с предписанием! Коштял не поехал, со злорадным хладнокровием выжидая, когда же противоположная сторона вспомнит о соответствующем правиле. Противоположная сторона в лице Перотека, любимчика трамвайного начальства, звонила и могла звонить до светопреставления; Коштял так с места и не тронулся. Затянулось это надолго: Перотек в исступлении звонил, предоставляя Коштялу возможность живот от смеха надорвать. Сверху и снизу уже выстраивалась за ними очередь, и тут из глубины парка, вдоволь насмотревшись на это вопиющее безобразие, выступил контролер.
Он сразу стал унимать петухов, но подход у него к каждому был свой. Перотеку он выговорил так, будто благодарность ему вынес, а вот на Коштяла, хоть и признал его правоту, напустился, дескать, никакой беды не случилось бы, проскочи он первым, тем более что Перотек новичок, и Коштял знает об этом.
Как тут было Коштялу стерпеть; в ответ он отрезал, что, мол, все служебные предписания, получается, коту под хвост, раз тот, кто их добросовестно блюдет, получает нахлобучку, а тот, кто нарушает, в пай-мальчиках ходит.
На это контролер пообещал ему о котах поговорить в другом месте, и тут Коштял, вконец утратив от гнева и похмелья благоразумие, брякнул самое что ни на есть ужасное:
— Ну еще бы, господин хороший!
Киоскерша в парке, вязавшая на пороге чулок, подметальщик, да и все подъехавшие вагоновожатые, исключая Перотека — тоже чеха, хоть и всего лишь из Полички, — покатились со смеху, но тут же посерьезнели, потому как сказать «господин хороший» было самым страшным оскорблением, какое в Моравии могли нанести чеху из королевства, а контролер Форманек был как раз оттуда.
Но если ганак [189] хотел сделать это оскорбление особенно ядовитым, то он говорил не просто «хороший», но демонстративно на чешский лад мяукнув: «хороши-ий» или даже: «золото-ой мой господин хороши-ий». Так вот передразнивали чехов из королевства, вкладывая в это страстный протест моравских ревнителей против чешского якобы криводушия, сказывающегося в подобных выражениях. Самыми же «господами распрекрасными» почитались чехи, засевшие на должностях, какие пристало занимать мораванам.
Такая издевка попала контролеру Форманеку не в бровь, а в глаз. Он словно язык проглотил и сразу же, развернувшись на каблуках, ушел прочь.
Эти племенные препирательства — обычно они начинались шуткой о святом Яне Непомуцком, которого чехи утопили (чтобы иметь возможность вполовину дешевле въезжать в Прагу, — уточнялось при этом), или о последнем из рода Пршемысловичей, которого мораване убили в Оломоуцком замке, или же вопросом-ловушкой, отчего это каждая собака в Моравии приседает, завидев чеха из королевства (из уважения, считали чехи, тогда как мораване были другого, охального мнения), а заканчивались перебранкой с нешуточным исходом — строго преследовались среди служащих, с наказанием зачинщиков, и как раз тот самый «господин хороший» оказался последней каплей в провинностях Коштяла, переполнившей чашу терпения, в результате чего Коштял в один из дней — получилось так, что вместе с Завазелом, — отправился из депо в Гейчин, ремонтировать пути на пригородном участке.
Было это на день святого Марка, солнце сияло как по заказу. Дружные всходы озимых уже подросли и струились под расчесывающим их ветром, а тот торжественно полоскал заодно и красные хоругви гейчинского крестного хода, живописно обвивая их вокруг древок.
Небесные высоты были усеяны жаворонками так густо, насколько это не мешало им состязаться, кто дальше всех взлетит и громче всех споет, при этом высотные и певческие их рекорды были выше всяческих похвал. Жаворонки взлетали дугообразно, словно прыгали с одной ступени божия престола на другую, пока не исчезали один за другим в лазури, а вслед за ними и игристый их щебет, так что вскорости слышен он был лишь одному Господу.
Можно предположить, что молитвенному гимну жаворонков