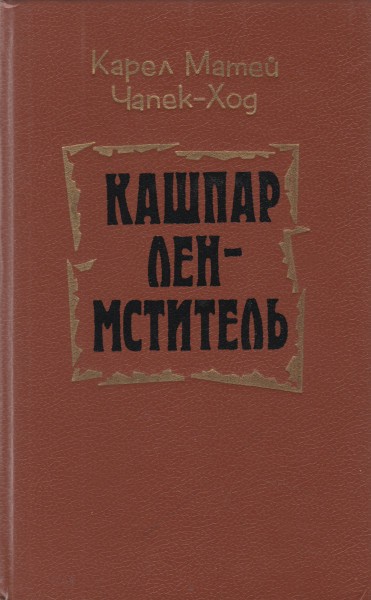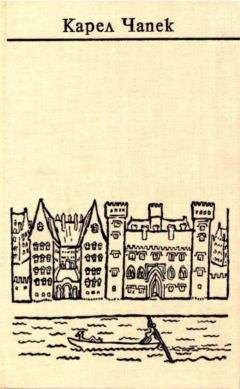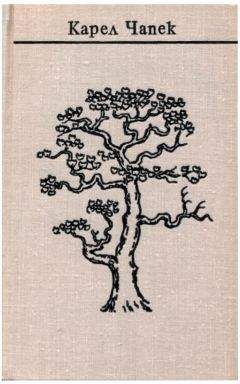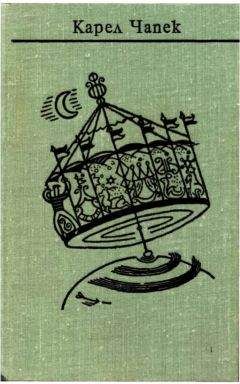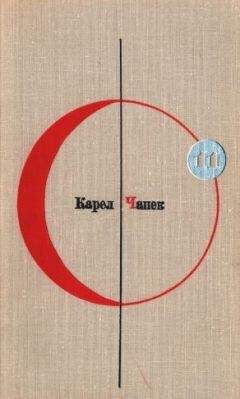не терял времени зря; как пришпоренный бросился он на помощь, сложил короба один на другой, как тарелки, и, подсунув ладонь, единым махом, с ловкостью пивоварского мастерового, навыкшего грузить бидоны на фуры, держась лишь за хватки, водрузил всю стопу на голову и таким манером пронес весь вываленный груз шагов двадцать, с места катастрофы во двор.
Завазелка вылупила на него глаза, да и он отвечал ей тем же, благо при ближайшем рассмотрении она того стоила. Была она из той редкостной породы женщин, о которых этнографы шутят, что такая красавица на всю деревню бывает одна, потому как остальным пришлось на нее сложиться, отдавая каждая свое что ни на есть лучшее.
Всего в ней было много, но ничего лишнего и тем более слишком уж лишнего. Но особенно в ней привлекало то, что при всей дюжести она отличалась удивительной стройностью и цветущей женственностью и ничем не напоминала тот обычный тип деревенской бабы, который формируется уже годам к тридцати. Для этого у нее была довольно изящная, гордо посаженная головка, и хоть плечи и бедра, пожалуй, широковаты, зато руки и ступни просто крошечные — это у зеленщицы-то!
Коштял, конечно, не разглядел таких примечательностей, да и вряд ли был способен на это. Но и увиденное им было не абы что.
Завазелка сорвала с головы платок, само собой, красный, и, вытирая им пылающее лицо, костерила собаку:
— Ну и умыкала мене треклятая песища, дьявол экой! Утресь ему жранки не дала, дак тепере прямо лоханку слопать горазд!
Не остыв еще, она кричала во всю глотку, как заправский горлохват — молва, знать, не обманывала.
Но уж кокеткой она не была, это точно! Иначе не стала б снимать платок, открывая взлохмаченную, растрепанную копну волос, черных как смоль, закрученных на затылке в тугой узел.
Восхитившись спервоначалу Коштяловой ловкостью, она больше почти не обращала на него внимания, хотя все, что говорила, предназначалось для его ушей — ведь не для глухого же муженька! — и говорилось так, словно знала она Коштяла давным-давно. Видать, ей хватало того, что на нем была форма трамвайщика, такая же, как у ее хозяина. Завазелова была из тех полнокровных женщин, у которых уста и ланиты прямо-таки пышут. Она рделась пуще своего платка и не успевала стереть пот, как на щеках и на шее снова переливались капельки, что малюсенькие зеркальца.
— Совсем щеня, да ишо и от живодера, невтерпеж ему, — сказала она рассудительно и только тут удосужилась как следует к Коштялу приглядеться. Глаза ее смотрели, а уста спрашивали:
— Так вы и хрестов день думаете провести в транвае? Вам бы самое место тепере в молебственном шествии!
— Мы оба два, пани Завазелова, откатали ужо свое на транваях! — ответил Коштял.
— Вот так новость, и ето мой мужик прихватил вас в помочь, чтоб вы мене о том сказали? А вы кто таков будете и кого ж переехали, что вас тоже выгнали?
— Коштялом зовут, — оробело промямлил мужнин товарищ.
— Ну погодь, мы еще парой слов перемолвимся в другом месте! — громыхнула Завазелова мужу в ухо, а он только зажмурился, как тот пес, когда его били.
Однако ж Коштялово имя Мариша мимо ушей не пропустила.
— Вы случаем у етих акцинеров не работали?
— Точно, было такое дело.
— Дак вы тот самый! — протянула Завазелка раздумчиво. И живо добавила: — Значит, вас турнули из-за женщин. Ну что ж, по мне, так не диво.
Видать, она наслышалась о нем, и то сказать — не в одиночку ведь на рынке сидела.
Коштял заглянул в ее немилостивые насмешливые глаза, задержался взглядом на усиках в три-четыре волоска, росших в углах пунцового рта, — на висках ее тоже курчавились завитки, закрывавшие скулы, — потом обстоятельно рассмотрел две параллельные, тонкие, как ниточка, неглубокие складки, окольцовывающие шею, и с донельзя скорбным видом сказал:
— Ишо чего, из-за баб! Да мне на них начхать! — И для пущей убедительности сплюнул.
— Хитер! — засмеялась Завазелка. — Зарекался кот мышей ловить.
Но глаза их вели совсем другой разговор, нежели уста. Коштял перво-наперво осмотрел ее, как бы составляя опись внешности, и вывод, к которому пришел, выразился у него очень просто. Одним оком. Медленно прищуривал он свой глаз, пока тот совсем не прикрылся, лицо соответственно осклабилось, точно у фавна, но тотчас приобрело выражение умиленное, растроганное, даже с каким-то вызывающим жалость налетом смиренности, — словом, пустил в ход мимику, давно проверенную своим безотказным действием на женщин.
Брови Завазелки раз и другой сошлись на переносице, она видела его насквозь и изумлялась. Коштял облизнул нижней губой свои усы словно после смачного глотка, но тут же снова засерьезничал.
— А обче-то наши дела, мои с Завазелом, не так уж плохи...
И он пустился в пространные объяснения, мол, их и не уволили вовсе, а только перевели, а его совсем не из-за баб, а за то, что язык распустил, когда контролер к нему пристал. Он честно и мужественно признался, зачем пожаловал сюда с Завазелом, но в свое оправдание упомянул и о том, что была это Завазелова идея, а не его, с ее помощью они рассчитывали возместить друг другу убытки от такого перевода.
— Пресвятая матерь! — запричитала Завазелова пригожая молодка, услышав о тридцати кронах: и что, дескать, ее благоверный себе думает!
Но Коштял сразу же унял ее.
— Гм-м, затея ета не моя, а евойная, нет так нет, коли так, прощевайте!
— Ну, на неделю-другую ишо куды ни шло!
Бросила она это чуть слышно, но когда Коштял, уже уходя, обернулся, глядь, в Завазелке, о которой говорили — кровь с молоком, осталась, похоже, в эту минуту одна лишь кровь. Пылала она еще сильнее, чем когда вернулась из города.
Коштял перебрался еще до полудня. Принес свои пожитки на ремне, увязанные в зеленую рогожу из солодовни.
Больше всего тому, как гладко все сошло, дивился сам новоиспеченный его хозяин. Рот открывал, словно карп, шире обыкновенного.
А после обеда они вместе уже шлифовали рельсы. Это была самая паскудная из всех путейских работ. Двое рабочих стоят друг против друга, обеими руками ухватив рукоятку тяги с приделанным к ней снизу напильником — тяжеленным, да еще с грузилом, — им-то и шлифуется рельс по мере того, как рабочие перетягивают его на себя