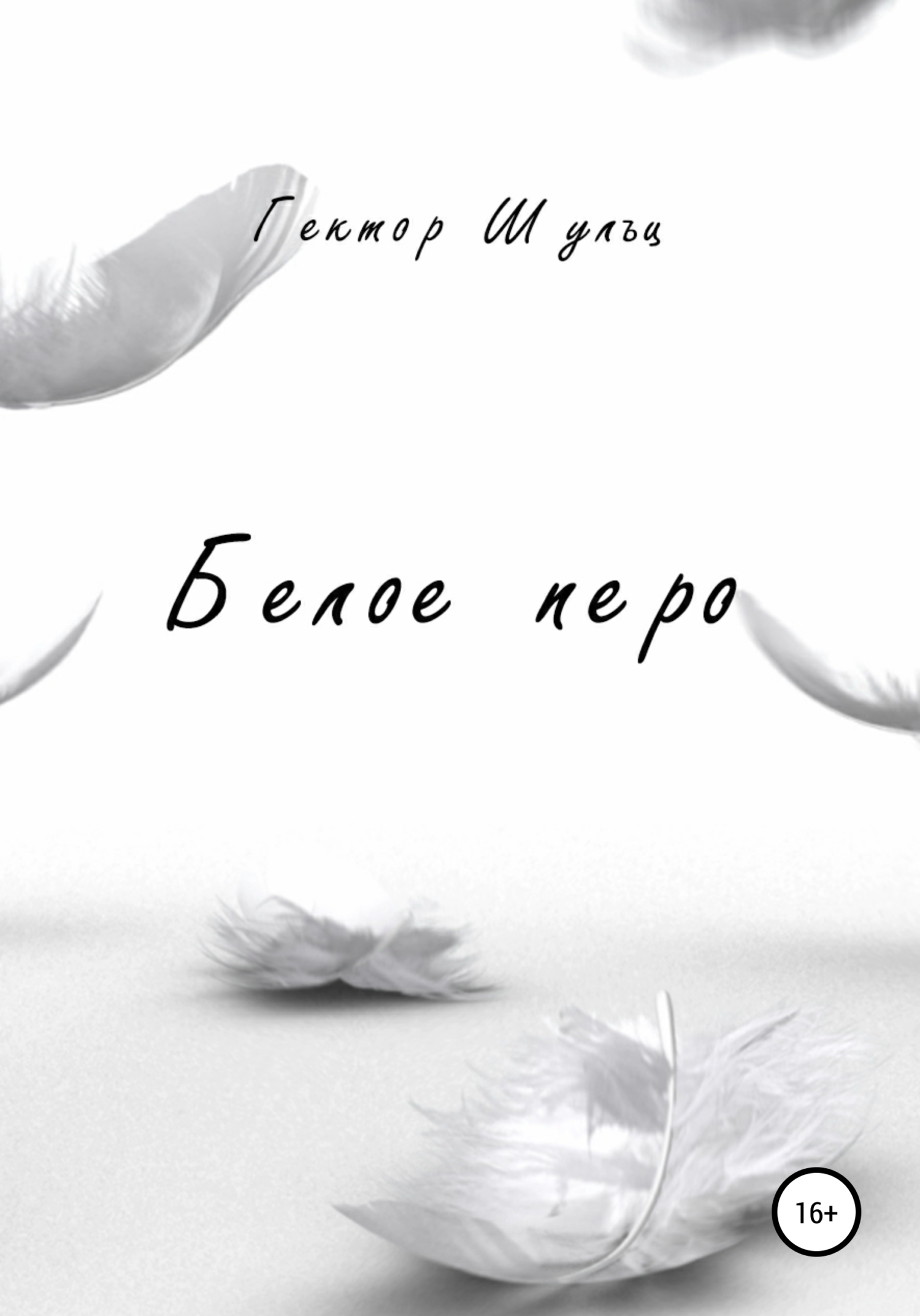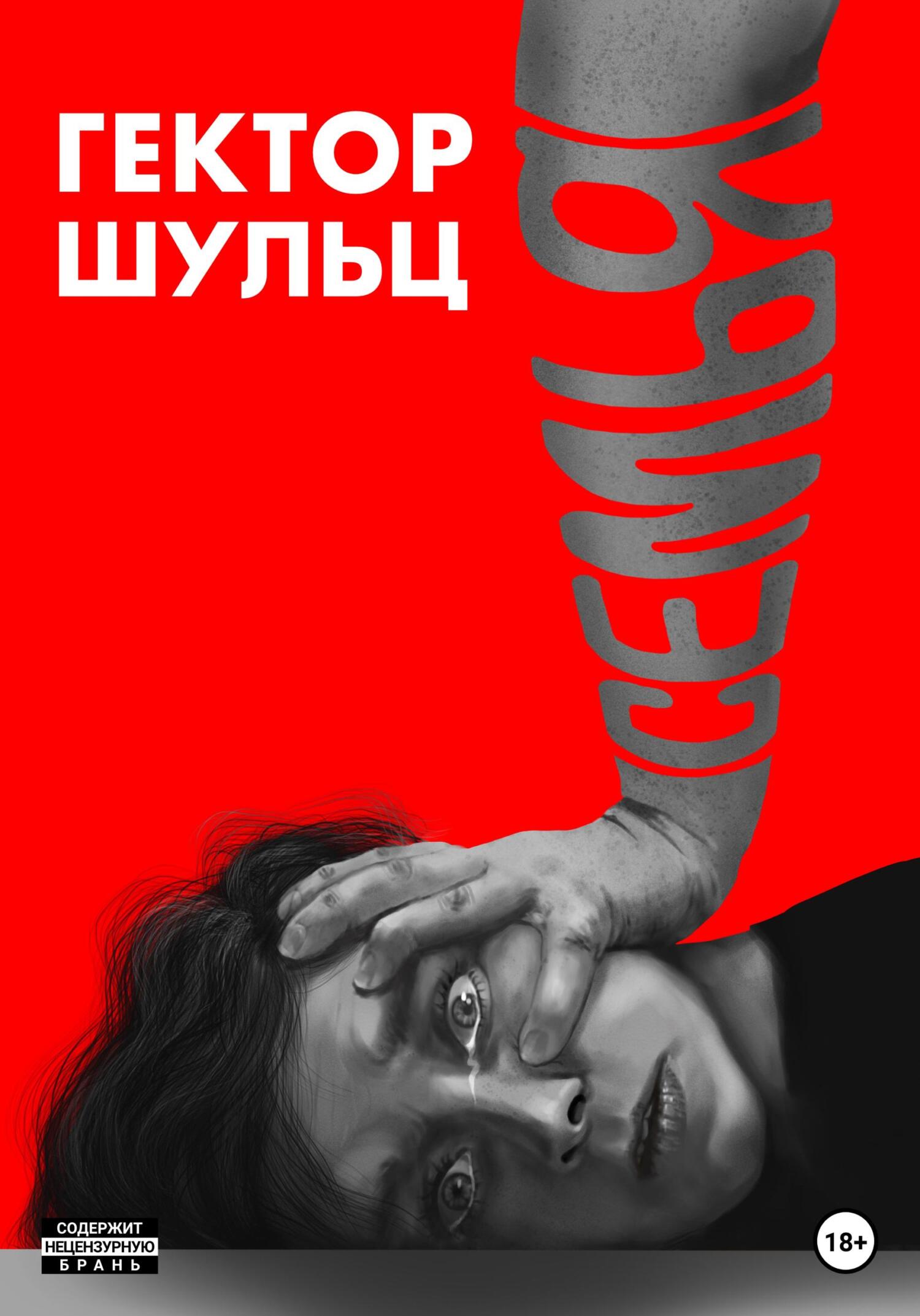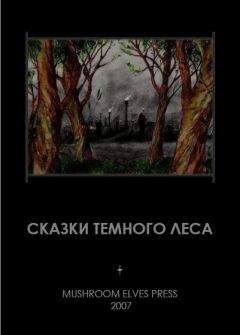и, пока Алёнка клеила треснувшую подошву, умял свою порцию. Затем, забрав второй ботинок, коробок спичек и клей, принялся латать его, пока Алёнка ела. Она не поднимала на меня глаза и была на редкость молчаливой, но я понимал причины этой молчаливости. Ей просто было стыдно. Стыдно за то, что одноклассник увидел её раздолбанные ботинки. Стыдно за то, что не было денег купить новые. Стыдно за то, что она ела бутерброд, который ей дала не мама, а кто-то другой. Однажды она даже быканула, отказавшись брать бутерброд, но после пары минут гляделок мой тяжелый взгляд победил и Огурцова съела свой ебучий бутерброд, давясь невидимыми слезами. Я редко видел её плачущей, и, пожалуй, из всех лохов Алёнка была самой сильной в этом плане. Но тут слезы победили, и она впервые открылась мне полностью.
Алёнка плакала и говорила, что устала так жить. Когда на ужин только голые макароны без масла, а ботинки, на размер больше, разваливаются на глазах. Что матери задерживают зарплату, и этих крох еле хватает на то, чтобы выжить.
Я не перебивал её, не пытался утешить. Понимал, что сейчас ей надо выпустить это говно из своей души. Обнял лишь напоследок, когда поток слез угас. Обнял по-дружески, потому что понимал, что это объятие ей нужно. Объятие того, кому на неё не похуй.
Тем вечером я подошел к маме и сказал, что нам надо поговорить. Отец был на работе, но мне нужна была именно мама. Я, путаясь в словах и краснея, спросил, есть ли у нее какая-нибудь старая обувь, которую она больше не будет носить, а выкинуть жалко.
Мама, удивившись, пошла к кладовке, а я поплелся за ней, стараясь не провалиться под землю от смущения. Мы разобрали половину кладовки и нашли лишь старые югославские балетки, в которых мамка ходила лет десять назад, почти неношеные полусапожки черного цвета на осень-зиму и папкин военный противогаз с мышиным говном внутри. Полусапожки были ей малы, но я лелеял надежду, что нога Алёнки поменьше, чем у моей мамы.
– Зачем тебе старая обувь? – спросила мама, склонив голову.
– Да мы там нуждающимся помогаем в школе. Вот и попросили принести ненужную обувь или одежду, – соврал я, сам не понимая, нахуя я это делаю. Мамка была понимающим человеком и вряд ли бы что-нибудь сказала, поведай я ей о настоящих причинах.
– Так давай я отцовские вещи переберу! – вскинулась мама, заставив меня вскочить со стула.
– Не, хватит, ма. Там сказали, типа женскую обувь и все. Если есть, – пробормотал я и, схватив обувку, помчался в коридор, чем чуть себя не спалил.
– Ты куда?! – охнула мама, увидев, как я одеваюсь. Пришлось снова врать.
– Да я к Шпилевскому отнесу. Они тоже там что-то собрали, у них сумка есть, а папка его поможет утром отнести все сразу.
– А, ну ладно, – с сомнением протянула мама. – Не задерживайся, Тём. Скоро ужинать будем.
– Ага. Я быстро, – крикнул я и вылетел на улицу.
Пересекая двор и подбегая к Алёнкиному подъезду, я почему-то вспомнил, что никого может не быть дома. Вдруг Алёнка с мамой где-то моет полы, а я только дверь поцелую. Придется потом оправдываться и снова брехать. Но, на мое счастье, Огурцовы были дома.
Алёнка, удивившись моему приходу, закусила губу, когда я, краснея, вытащил из-за пазухи два пакета с обувью и протянул ей. Тетя Наташа лишь улыбнулась, глядя, как я подаю Алёнке руку и помогаю усесться на старенький табурет возле входа, а потом разворачиваю пакет и достаю оттуда балетки и сапожки.
– Мама сказала, что выбрасывать жалко, а ей малы. На Блоху выносила, да никто не взял, – путанно объяснил я, от волнения пытаясь самостоятельно надеть балетки на ноги Алёнки. Та, истерично хихикнув, сконфузилась и закрыла лицо ладошками. – Они хорошие, правда. Сапоги мама почти не надевала.
– Молодец, Артёмка, – снова улыбнулась тетя Наташа. Я заметил, что её глаза блестят от слез, но она держалась. – Здорово как! Как на тебя, Алёнушка!
– Ага, – буркнула себе под нос Алёнка, рассматривая отражение в зеркале в прихожей. Она поджала дрожащие губы, искоса посмотрела на меня и тихо добавила: – Спасибо.
– Носи на здоровье. Если что еще найдем, я принесу, – ответил я и попятился к выходу. А когда вылетел на улицу, то еле успокоил бешено стучащее сердце. Горели щеки, уши… Да я весь, блядь, горел. Горел и ничего не мог с этим поделать.
Утром Алёнка пришла в школу не в своих громоздких, треснувших ботинках, а в маминых полусапожках. Осторожно вошла в класс и юркнула на свое место, на секунду задержав взгляд на мне и скупо улыбнувшись. Она пропустила мимо ушей замечание Панковой, мол у Алёнки деньги завелись, раз она обувку сменила. Промолчала и на едкий комментарий Зябы, что теперь ей пора спалить свою уродливую кофту и старую юбку. Весь урок она тихо сидела и улыбалась, изредка опуская взгляд, чтобы полюбоваться новой обувью.
А перед новогодними каникулами уроды оставили её без учебников. Началось все с подачи Панковой, которой Алёнка вдруг отказалась дать списать контрольную работу. Мне она потом объяснила, что сама была не уверена в правильности решения, но Панкову это не волновало. Она углядела в Алёнкином ответе вызов и, как истинный урод, решила наказать зарвавшуюся девку.
Панкова подбила Дэна, который шлялся за ней, как озабоченный кобель, и Кота украсть у Огурцовой все учебники и что-нибудь с ними сделать. Дэн, может, просто выбросил бы их на улицу, но Кот решил иначе. Пока Панкова с Дэном отвлекали Алёнку, наезжая на неё из-за контрольной, Кот схватил портфель Огурцовой и кинулся с ним в туалет. Там он вывалил все содержимое портфеля в толкан и еще ногами потоптался, утрамбовывая поплотнее. Коту этого оказалось мало, и он до кучи спустил воду, из-за чего учебники и тетрадки с красивыми конспектами превратились в бесполезную раскисшую бумагу. Алёнка, дождавшись вечера, попала-таки в мужской туалет и долго плакала, пытаясь вытащить учебники из вонючей мочи. Плакала она и по тому, что за несданные учебники в конце года полагался денежный штраф, а свободных денег у Огурцовых и так не было.
Меня в тот день не было в школе, и Алёнка рассказала об этом потом, когда мы сидели в читальном зале библиотеки и трескали бутерброды с сыром, прогуливая физкультуру.
– Они все равно бы тебе подлянку устроили, Алён, – тихо ответил я, когда сбивчивый рассказ Огурцовой закончился. – Им похуй, какие были причины. Ты залупнулась, они ответили. Уроды ебаные.
– Я вчера