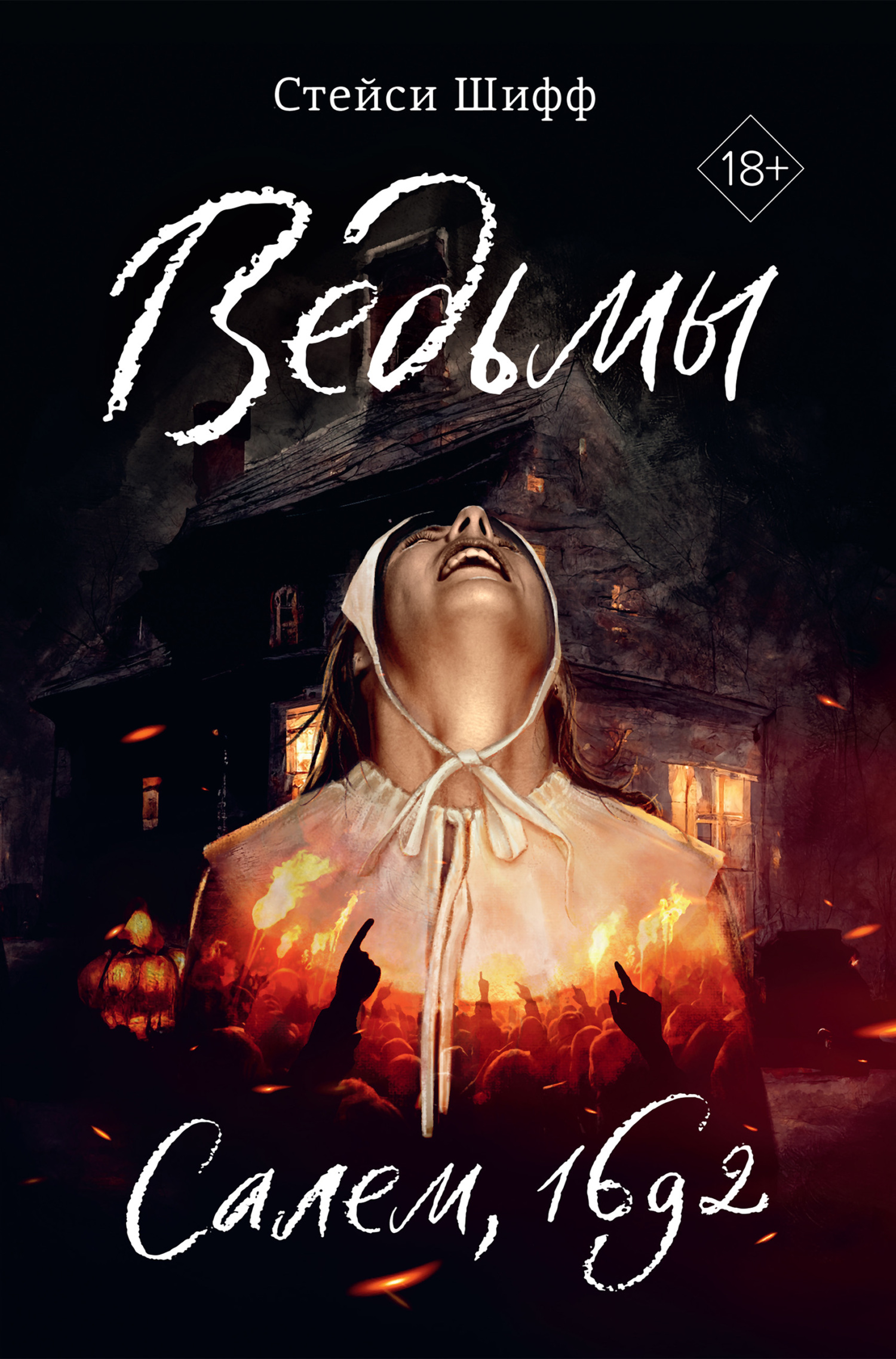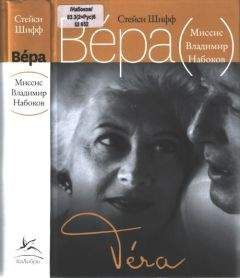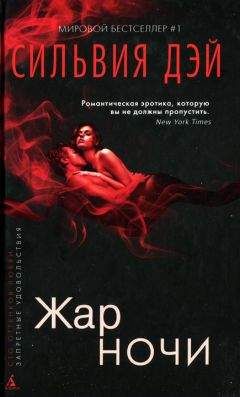Через несколько месяцев он пришел к Олденам. Он сожалел. Он очень рад возвращению доброго имени капитана. Это был редкий жест: во всяком случае, поначалу взаимные обвинения предшествовали объяснениям и намного превосходили числом извинения. Семьи Нёрс и Тарбелл продолжали бойкотировать церковные службы в Салеме; хлопавшая дверьми и прерывавшая проповеди Сара Клойс выжила, но двух ее старших сестер повесили. Она поселилась с мужем в Бостоне. Филип Инглиш вернулся после девяти месяцев обвинений в разоренный дом, до нитки обобранный мародерами [5]. Вскоре он начал ездить из Салема в Марблхед на англиканскую службу. Даже если не брать в расчет религиозные предпочтения, сложно было представить, что он когда-нибудь снова станет молиться рядом со Стивеном Сьюэллом. Инглиш начал подавать прошения о возмещении ущерба в апреле 1693 года. Двадцать пять лет спустя он все еще продолжал этим заниматься.
В то воскресенье, когда Олден не пришел на службу в третью церковь, Деодат Лоусон проповедовал в Чарлстауне. Он говорил о семейной дисциплине, напоминая отцам семейств об их обязанностях перед детьми, слугами, рабами. Лоусон предостерегал от отвлекающих внимание вещей и механического выполнения обязанностей. Родители не должны быть чересчур формальными и нудными. Пасторы бывают такими же нерадивыми, как их прихожане, и, что называется, «в людях – ангел, дома – черт» [6]. Почему-то он особенно сетовал о детях «двенадцати, четырнадцати или шестнадцати лет», заброшенных и испорченных. Разве не стала эта юная поросль причиной давешних бед Новой Англии? Неудивительно, что Сатана смог запугать их, и «подчинить себе, и склонить на свою сторону». Родители оставили своих чад – это привело к растерянности, протесту, неподчинению и дьявольским контрактам. Лоусон опубликовал проповедь в 1693 году, вооруженный одобрением Инкриза Мэзера и посвящением Сьюэллу. Этот текст наверняка расстроил Пэрриса. Лоусон несколько отошел от своего недавнего утверждения, будто благочестивый дом уязвим более прочих.
У пастората деревни Салем имелись свои причины для самокопаний: там жили пятеро обвинителей и четверо заколдованных, больше, чем где-либо еще. Пэррис понимал, какой груз его семейство взвалило на плечи общины (можно лишь догадываться, о чем думали местные жители, каждый раз проходя мимо его злосчастного, всеми обсуждаемого луга). Через несколько недель после проповеди Лоусона Пэррис предложил выделить шесть фунтов из своего жалованья за 1692 год «на помощь соседям и попытку обрести согласие» [7] и выразил готовность сделать то же самое в следующем году. (Пастор не смог удержаться и добавил, что сделал это пожертвование, хотя ему произошедшее тоже дорого обошлось.) Он не пытался взять обратно Титубу, принесшую ему столько позора и столько расходов. В то время, пока суд сворачивал дела, тюрьмы пустели и семьи воссоединялись, она оставалась за решеткой. В конце 1693 года кто-то оплатил ее тюремные издержки, то есть фактически купил рабыню. Она уехала из Массачусетса.
Некоторым так и не удалось вернуться к нормальной жизни. Метка «ведьма» никуда не девалась, человек всю жизнь нес на себе некую «не поддающуюся определению особенность» [145] [8]. Перед смертью Джон Проктер предостерег: подозреваемых осудили еще до разбирательств их дел. Осужденными они остались и после вынесения оправдательных приговоров. Его вдове пришлось хуже всех: в своем завещании он не упомянул Элизабет, и напрасно она тягалась с родней. «Они говорят, – сообщала она суду [9], – что по закону я мертва». У приемных детей было достаточно причин не желать знать свою темпераментную, «меченую» мачеху. (В итоге она переехала в Линн и там снова вышла замуж.) Дочь преподобного Дейна, также помилованная по причине беременности, вернулась к больному мужу и шестерым дожидавшимся ее детям. И жила «как преступница» [10]. Жизнь обвиненной в «отвратительнейшем из всех грехов, на которые только способен род человеческий», превратилась в руины, и ее семья, как она опасалась, могла снова оказаться под подозрением. И это, как она выражалась, «неистребимое клеймо позора» было не единственным тяжким бременем таких, как она. Крепкие сыновья Марты Кэрриер пережили пытки. Признавшись в полетах на шабаш, они помогли отправить на казнь собственную мать. А осиротев, обнаружили себя родственниками женщины, вошедшей в историю с титулом «царица ада».
В то время как казни ведьм излечили некоторых от насланных хворей, судебные процессы изувечили многих других. Сара Клойс, проведя пять месяцев в кандалах на руках и ногах, вышла из тюрьмы совершенно одряхлевшей. Мэри Инглиш вернулась из ссылки калекой и умерла в 1694 году в возрасте сорока двух лет. Как минимум четверо подозреваемых умерли в тюрьме. Маленькая Дороти Гуд до освобождения просидела в миниатюрных кандалах восемь с половиной месяцев. Только что родившаяся сестренка умерла у нее на глазах, а мать (против которой она свидетельствовала) с гордо поднятой головой отправилась на виселицу. Рассудок Дороти повредился, и весь остаток жизни ей требовался уход. У Мэри Эсти и Сюзанны Мартин осталось по семеро детей. В целом салемские процессы оставили огромное количество детей сиротами.
История с колдовством требовала хорошей памяти и строгого учета, однако в 1693 году людям не хотелось ни того ни другого: даже те жители деревни, которые прежде никогда ничего не забывали, вдруг сделались жертвами жестокой амнезии. А если кто-то и искал причины случившегося, то в первую очередь спрашивал: что принесло к нам эту «чертову компанию дьяволов или ведьм»? [11] Их потомки будут призывать чтить старшие поколения, а не извиняться за сломанные жизни. Андоверу и Салему не должна достаться дурная слава Швеции. Новая Англия не собирается войти в историю как «Новая Ведьманглия»! Пройдет какое-то время, пока люди поймут, что нельзя за час пролететь по воздуху на большое расстояние и вернуться обратно (в частности, потому, что вы не сможете дышать, как в 1697 году заметит Джон Хейл). Еще больше времени пройдет, пока кто-то признает, что было загублено двадцать невинных душ. Хейл отправится в могилу, убежденный в обратном.
Утверждение Брэттла, что, когда люди ошибаются, совершенно необходимо на это указывать, тоже не нашло сторонников. Стыд затмевал чувство вины, и мало кто соглашался, что нет ничего более достойного, чем признать свою ошибку. В итоге один только неуправляемый губернатор Фипс позволял себе показывать пальцем. Он по-прежнему ругал своего главного судью-крестоносца. Стаутон же не считал необходимым защищать свои решения, да никто от него этого и не требовал. Признавшиеся отрекались от своих историй, некоторые говорили, что все придумали, чтобы сохранить себе жизнь. Некоторые обвинители и свидетели, как выяснилось, были «людьми распущенными и злоязычными» [12]. Кто-то признался, что солгал; кто-то настаивал, что ничего из собственных показаний не помнит. Складывалось ощущение, что все вдруг проснулись и старались