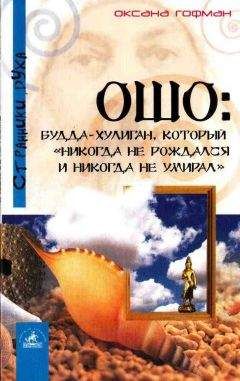бы не расставалась с ним, только была молчалива и скорбно смотрела на него. Он хотел бы узнать, что с нею, и не однажды спрашивал, но она не отвечала. Он думал, она не слышит, и спустя немного решил, что, поменяв свою сущность, она уже не в силах общаться с ним, как прежде, у нее теперь другая речь, и она произносит какие-то слова, но он не умеет уловить их смысл и мучается… Так он и жил, имея перед собой облик любимой женщины и совершенно позабыв про все, но вот пришел риша Асита и заговорил о царевиче.
Суддходана медленно, преодолевая в душе сопротивление, очнулся и посмотрел вокруг.
— Что значит Будда, жизнь которого на земле есть дар небес?! — воскликнул риша. — Он есть все и вместе с тем он твой сын… И я сейчас увижу его!
Принесли ребенка. Асита потянул к нему худые тонкие руки, но так и не коснулся младенца, заплакал…
— Что с тобой, о муни? — спросил Суддходана. — Отчего ты плачешь?
— Я плачу, мой властелин, потому что я дряхлый старик, а этот мальчик, благословенный Богами, станет Буддой, — не сразу ответил Асита. — Мир преклонит перед ним колена, когда он обнародует свой Закон. Но я не увижу этого, и я плачу…
Он замолчал, вытер слезы, долго разглядывал младенца, а потом, поклонившись ему, обошел вокруг него три раза, и, неспешно выговаривая слова, точно бы прислушиваясь к их звучанию, сказал:
— Твой сын, о государь, прекрасен, на теле у него отчетливо обозначены тридцать два знака. Эти знаки от Богов, но они еще и от ближнего, земного мира.
Асита вздохнул, в темных блестящих глазах что-то вспыхнуло, и, светящиеся дивным огнем, они сделались как бы не от мира сего, и не сказать, что в них так яростно и горячо полыхает: пламя ли какое-то, огонь ли небесный, может, от самого Агни, вдруг растекся по земле и пометил избранных сердца своего?..
— Вот смотри, о государь! — воскликнул Астита. — На пятках у младенца изображены колеса. Это символы. Ими помечается лишь тот, кто одарен силой Нирваны!
Суддходана посмотрел на ребенка и в нем что-то сдвинулось, в душе, прошептал:
— Это мой сын… сын… Что же я?..
И это, произнесенное им, чуть отодвинуло сделавшуюся привычной после смерти жены сердечную боль.
— О муни, — тихо обронил Суддходана. — Я плачу…
И был молодой чандала [16], низший среди людей, рожденный от отца-кшатрия и матери, принадлежащей презренной судре. Немного чего хотел: может, чтобы пореже напоминали о его происхождении, и тем меньше угнетали душу, а она стремилась к освобождению от жизни, бросившей его на самое дно, где и меньшому брату человеческому быть не пристало. Ей душно и тесно в окружающем мире, и она задыхалась, и, едва опознавшая в себе духовность, медленно угасала. Бывало, чандала спрашивал у себя и у тех, кто обитал в небесных пространствах, отчего он так несчастен? Но, спрашивая, не хотел слышать ответа, страшился.
Впрочем, он и сам обо всем догадывался. И эта догадка заставляла смиряться. Смирение для него не было затруднительно, он перенял от матери покорность судьбе, непротивленность ей. Он был один, он почти всегда был один, никто не желал с ним знаться, даже судра избегала его. По закону Ману, принятому меж людей, он, рожденный от смешанного брака, никем не являлся, никого не представлял, обозначал собою как бы пустое место. Поэтому никто не обращал на него внимания, никто и словом не хотел бы обмолвиться с ним.
Сначала это тяготило, потом он привык к вынужденному одиночеству. Плохо только: чем больше он стремился к отчуждению от людей, тем хуже у него это получалось. Он, сделавшийся прекрасным темноволосым юношей со строгими правильными чертами лица, вдруг стал всем мешать. Стоило ему взглянуть на девушку, проходящую мимо, как тут же находился кто-то и яростно кричал, что он грязный чандала и не смеет подымать глаз, и его надо убить. Достаточно ему было оказаться рядом с толстобрюхим менялой, как тот подозрительно, с очевидной завистью в маленьких глазках оглядывал юношу и гнал прочь… Его красота мешала всем, даже почтенному кшатрию, и у того возникало неудовольствие жизнью при встрече с ним, ведь она распорядилась так неразумно, наделив красотой презренного и отняв ее у достойного.
Молодой чандала, если бы мог, не покидал бы хилого жилища, но это было невозможно, он служил господину, а тот не потерпел бы и малого промедления с его стороны. С каждым днем ему становилось труднее ходить по улице к высокому, из красного кирпича, дому, где жил господин. Вот и сегодня что-то сказало ему об опасности, притаившейся за тонкой тростниковой дверью жилища, и было бы лучше, если бы он никуда не ходил. Ах, если бы все зависело от его воли!
Он шел по нешумной, настороженной, как ему казалось, и почти враждебной к нему улице. Он шел, наклонив голову и стараясь не смотреть в лица людей, встречавшихся ему, все ж не упуская их из вида, чтобы никого не обидеть хотя бы и случайным невниманием или еще каким-то действом. Наппряженный и привыкший к напряженности, даже если порой и думал о неближнем, он точно бы сросся с нею, она сделалась частью его существа, отними ее и уж будет другой человек…
Но в тот день деревья над головой шумели, было не жарко, как обычно. В высоком небе проплывали стаи лебедей. Не сразу разглядишь их в поднебесье. Молодой чандала безвольно остановился и посмотрел вверх. Было так дивно, так глубоко и так просторно в небе, что у него захватило дух, а стоило рассмотреть светящиеся белые точки, как защемило на сердце. Чандала потянулся всей душой к ним, уплывающим, да разве дотянешься: слаба душа, одинока, задавлена неприютностью и ненадобностью в подлунном мире. Исчезли те точки, растворились и уж ничего не видать в небесной пространственности, сделалась холодна, как и все на земле.
Не выдержав, молодой человек заплакал, а потом пошел, от слез ничего не видя перед собой. Он пребывал в угнетенном состоянии духа и нечаянно задел локтем встреченного человека. Тот остановился, покосился на него. Чандала смахнул слезы и увидел высокого крупноголового брамина с сильной жилистой шеей, в синем халате, ниспадающем золотым шитьем на землю. В лице у брамина от вспыхнувшего гнева что-то подрагивало, сдвигалось с места. Служитель Богов был явно не в себе, и молодой человек, поняв причину этого, испугался и хотел сказать что-то в свое оправдание, и от