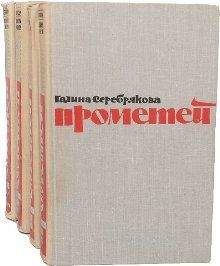В доме Марксов все говорило о нетерпеливом ожидании нового человека. Маленькая ванночка в передней, затянутая кисеей колыбелька, забытый на комоде повивальник, особое беспокойное внимание Карла к жене. Приехала из Крейцнаха со строгим наказом беречь Женни молоденькая Елена Демут, выросшая в людской дома Вестфаленов. Спокойно и умело взяла она на себя заботы о маленькой семье. И сразу стало как-то уютнее, наряднее вокруг. Появились какие-то чашечки, подносики. Пеклись булочки. Только с упрямой и вздорной госпожой Руге не поладила Ленхен. Зато Генрих Гейне может всегда рассчитывать на ее гостеприимство, на горячую чашку кофе или кружку остуженного пива. Он — желанный гость и баловень всех. Взлохмаченный Карл из-за груды бумаг неизменно радостно приветствует входящего поэта, Женни откладывает для гостя книгу и шитье, Елена торопится с угощением. И нередко проводят они все вместе зимние вечера у неспокойно гудящего камина.
Генрих приносит стихи. Он читает их негромко, но хриплый голос его выразителен. Отрываясь от тетрадей, поэт нервно ищет на лице Карла похвалы, осуждения либо равнодушия: последнее для него было бы нестерпимо. Но Марне никогда не бывает безразличен к лире издавна любимого поэта. Поэзия Гейне не бесстрастна, не бесцельна. Уже написано «Просветление».
Карл наизусть декламирует стихи нового друга:
Будь не флейтою безвредной,
Не мещанский славь уют, —
Будь пароду барабаном,
Пушкой будь и будь тараном,
Бей, рази, греми победно!
В тихие вечера о чем только не говорят Женни, Карл и Генрих! О далекой Германии, о Париже, то бурливом, то самодовольном, о новых идеях, книгах и людях.
— Я верю в революцию и жду ее. Не сегодня, так завтра. Политика — это наука. Мы найдем ее день в календаре и должны быть во всеоружии, чтоб нас не застали врасплох. Мы должны быть достойны своей цели. Это будет революция социальная, последняя революция на земле.
Гейне думает то же.
— На окраинах Парижа, — говорит он, — я видел людей в рубищах, с лицами, изувеченными голодом. Они читают памфлеты Марата и мрачные вещанья Буонаротти. Они хотят создать Икарию — эту страну, одновременно прекрасную и скучную для мне подобных скептических умов. Они пахнут кровью. И все же коммунисты — единственная партия, которая заслуживает почтительного внимания. Но хотя разум мой приветствует их, я боюсь этой разрушительной силы. Они, как гунны, уничтожат моих кумиров. Грубыми, мозолистыми руками они разобьют в порыве мести предметы тончайшего искусства, босыми ногами растопчут мои воображаемые цветы. Что будет с моей книгой песен? Кому нужны хрупкие мечты поэта? Навсегда развеются образы пажа и королевы. Нет, я боюсь этих мрачных фанатиков и их злобы. И все же они придут, они победят… Из одного отвращения к защитникам немецкого национализма я готов полюбить коммунистов. Им чуждо лицемерие и ханжество. Главным догматом они объявили неограниченный космополитизм, всемерную любовь ко всем народам, братские отношения всех свободных людей на земле. Великие чувства! Я — за них.
Карл, добродушно улыбаясь, слушает Гейне. Он хочет верить, что, рано или поздно, мятущийся поэт сам разберется в охвативших его противоречиях.
«Разве я сам, — думает Маркс, — не ищу? Вихрь мыслей качает и меня. Это рост, это движение, это залог того, что мы найдем себя и свой путь».
Иногда Генрих приходит к Марксам болезненно бледный. Женни тотчас же распознает его настроение по неровной походке, гримасе губ, дрожанию руки.
— Обругали? — спрашивает она сочувственно, если Гейне приходит сумрачный и жалуется на недуги, на человеческую пошлость и дурной парижский климат.
Поэт молча лезет в задний карман щеголеватого фрака и достает измятые листы журнала.
Большие губы его вздрагивают, и лоб страдальчески перекошен. Как обиженный, рассерженный ребенок, он борется с двумя чувствами — желанием заплакать и подраться.
— Не принимайте так близко к сердцу завистливый и злобный вой ничтожеств. Будьте милостивы к насекомым. Они тоже хотят жить, — говорит Женни и с подчеркнутой брезгливостью откладывает в сторону журнальную статейку.
— О, эти насекомые ядовиты! Это мухи цеце. Вы только послушайте их крики. Они меня хоронят. Это — людоеды, пляшущие вокруг костра, на котором поджаривается человеческое мясо.
— Ваш язык и в поджаренном виде будет для них страшнее пушки, — смеется Женни. — Над этим растревоженным болотцем можно только смеяться.
— Воняет, — хмурится Гейне. Но раздражение его проходит: у госпожи Маркс особое умение врачевать раны и усмирять взбунтовавшееся самолюбие.
«Однако, — думает Женни, подмечая перемену в настроении поэта, — как он незащищен, как легко его ранить! Внешняя самоуверенность и дерзость вызваны лишь самозащитой. Бедное, неудовлетворенное, мятущееся сердце, слишком насмешливое, чтоб довольствоваться обманчивыми звуками лиры, слишком требовательное, чтоб быть счастливым!»
Когда гнев и горечь покидают поэта, он торопится поделиться с молодой четой замыслом новой поэмы либо черновым наброском стиха. У Карла чуткий слух, не пропускающий фальшивой мысли, неудачного, напыщенного слова. Карл всегда беспощаден и неутомим в поисках совершенной формы. Из глубины кресла Женни наблюдает движение двух склоненных над листом бумаги голов.
Под неяркой висячей лампой еще чернее, еще гуще кажется шевелюра Карла, в темно-коричневых пушистых волосах Гейне еще ярче просвечивает седина. Генрих на двадцать лет старше Маркса. Но разница возраста неуловима. Саркастический необъятный ум Карла — камень, на котором оттачивается перо поэта.
Снова и снова перечитывается вслух стихотворение. Наконец отделка закончена. Карл удовлетворенно потирает руки и тянется за сигарой. Елена приносит из кухни ужин. В полночь Генрих уходит довольный, благодарный, успокоенный. Женни и Карл долго еще говорят о нем. Поэты, по их мнению, чудаки, идущие своими дорогами. Тщетны попытки управлять ими.
Женни. Это птицы, которые поют по вдохновению.
Карл. Но когда они рассекают мечом гранитный валун косности или с вершины скалы поют миру, миллионы людей идут на их клич. Поэт может стать трибуном.
Женни. Жаворонком, соловьем или орлом.
Карл. Что ж, это дивные птицы.
Желая подразнить мужа, Женни из деревянной шкатулки, куда сложены сувениры девичества, достает мятую пачку стихов юного Карла Маркса. Она декламирует их нараспев, щуря глаза. Веселый смех мешает чтению. Карл хохочет, закинув назад большую голову. Женни невольно присоединяется к нему.
— И все-таки, — говорит Карл, внезапно стихая, — автор заслуживает твоего снисхождения. Эти неудачные, безмерно патетические строки — плод любви и тоски по тебе.
— Мне они кажутся поэтому прекрасными.
— Как далек был мир от меня, как мало знал я жизнь и людей! И не я один. Сколько фальшивых представлений впитывало наше поколение!..
До утра говорят молодые люди. Ночи так предательски коротки. Едва успевают наговориться влюбленные, а уже сквозь жалюзи проглядывает рассвет. Серое, скудное пятно неба.
Едва дописав свою новую статью, Карл торопится отдать ее на суд жене. Никто лучше не понимал его замыслов. Иногда Женни писала под диктовку мужа или терпеливо разбирала черновые записи. Это были счастливые минуты полного единения. Женни, как мать, окружала его заботой; Карл с сыновней доверчивостью отдавал ей свои мысли.
Случалось, до рассвета они работали вместо. Елена ворчала за стеной и, потеряв терпение, требовала, чтоб Женни позаботилась если не о себе, то хоть о будущем ребенке. Карл шутливо хватался за голову, гнал жену в постель, гасил лампу, осуждал себя за невнимание, забывчивость. Но в следующую ночь повторялось тоже, покуда решительный окрик Елены опять не прекращал разговоров и скрипа ломких перьев.
Окончив к полночи статью, Карл, как всегда, спешит к Женни. Давно спит дом. Лучшее время для размышлений. Женни не хочет ждать до утра. Маркс не заставляет себя уговаривать. Он рад тотчас же показать ей итог последних дней работы. В этой статье, названной «К критике гегелевской философии права», он впервые употребил новое слово «пролетариат». Внимательное ухо Женни тотчас же уловило его.
— До сих пор, — говорит она, прерывая чтение, — ты писал обычно о бедных классах, о страждущем человечестве, которое мыслит, и о мыслящем человечестве, которое угнетено. Не так ли? Пролетариат — о нем так прямо сказано впервые.
— Я не только упоминаю о нем — я жду от пролетариата выполнения его великой исторической миссии, коренного общественного переворота, — и добавляет: — Главная проблема настоящего — отношение промышленности и всего мира богатства к политическому миру.