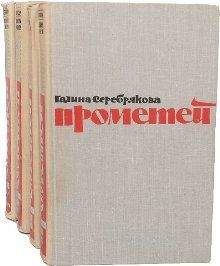Каролина фон Вестфален не мешала дочерней любви. После смерти мужа знатная небогатая дама поселилась в суровой замкнутости. Позади маленького вдовьего домика в саду, как и на Римской улице в Трире, стояла беседка, обвитая ярко-зеленой виноградной лозой. В сумерки Каролина вязала, полузакрыв глаза и откинувшись на спинку деревянной скамьи. По-прежнему томик стихов Китса, Шелли или Байрона лежит подле ее пышной юбки.
Овдовев, Каролина заперла рояль и накинула на крышку черный плюшевый саван. В большой траурной раме, обвитой дубовыми сухими ветками, на рояле стоял портрет советника прусского правительства. Людвиг Вестфален, жизнерадостный, удивительно здоровый, задорно смотрел на мир. Слезы появлялись в глазах Женни, когда она думала об отце. Карл едва прятал глубокую печаль. Его второй отец, его добрый друг ненамного пережил Генриха Маркса. Дом Вестфаленов опустел. Фердинанд неистово пробивался к чинам и почестям при прусском дворе. Неврастеническая тоска гоняла по свету Эдгара. Он так и не мог найти подходящую роль, чтоб играть ее в жизни. Милый бесполезный Эдгар, товарищ детских лет Карла.
Последней уходила от матери Женни. Девушке уже минуло двадцать девять лет. Каролина торопила дочь.
Карл и Женни поклялись не расставаться более. Они с облегчением покинули город их отрочества.
Без сожаления, хоть и с горечью оставлял Карл родину. Он устал от бесплодной изнуряющей борьбы с цензурными ухищрениями. Он временно отступил.
«Рейнская газета», его детище, более не существовала. Дух прусской казармы душил его.
Париж. Франция. Маркс надеялся за границей установить печатный станок. Оттуда, издалека, вместе с верными помощниками он сумеет пойти войной на самодержавие, на филистеров, на помещиков. Он не откладывал пера. Заглядывая в темную чащу философии, Карл повторял понравившуюся ему мысль Фейербаха, с которым был в переписке:
«Раз паука не разрешает загадки жизни, — что же делать? Обратиться к вере? Но это значило бы броситься из огня да в полымя. Нет. Надо подойти вплотную к жизни, к практике. Сомнение, которое не разрешает теория, разрешит повседневность».
Германия осталась позади.
И вот вместе с любимой женщиной Карл в долгожданном Париже, славном городе революций и мятежей.
Каждый новый город, каждая новая страна — школа. Маркс наблюдателен, как никто. Его пытливый взор находит без труда несравненно большие противоречия, нежели в сонном немецком государстве, открывает глухую борьбу сытых и голодных. Везде все то же… Жгучая ненависть к торжествующим буржуа нависла над столицей. Разоренные крестьяне наполняют улицы, клянчат милостыню, тихо мрут в подворотнях, на порогах превосходных домов новой знати.
Зверски оскаленная пасть — вот оно, буржуазное государство. Маркс отшвыривает с презрением гегелевскую, такую наивную и лживую перед мордой буржуазного Парижа формулу о нравственном организме, величаво возвышающемся над борьбой общественных классов.
«Ошибался или предавал? — спрашивал тень Гегеля Карл. — Старик был слишком гениален, чтоб так ошибиться».
Стоя подле жены, ощущая ласку ее прелестной руки, он размышляет о самых больших вопросах мира. Париж из окна дома на улицу Ванно кажется ему необъятным. Страшная борьба изо дня в день, от часа к часу, ежеминутно разыгрывается на безмятежных с виду улицах. Голодные и сытые. Богатые и бедные. Плебеи и патриции. Пролетариат и буржуазия…
Женни занята своими думами. Она далеко от Франции.
С нежной благодарностью вспоминает Женни Рейнландию, тихие летние вечера в Крейцнахе, прогулки вдоль соленых озер, разговоры о будущем. Возле целебного источника вместе с Карлом они снова перелистывают Монтескьё, Макиавелли и Руссо. Книги — их спутники.
— Помнишь, — говорит Женни, оборачиваясь к мужу, — помнишь, дорогой, как приехал к нам сам тайный ревизионный советник Эссер из Берлина? «Господин Маркс, — Женни надувает щеки и округляет глаза, — дружба с вашим покойным отцом принуждает меня подумать о вашем будущем. Я слыхал немало лестного о вашей образованности и трудолюбии. Похвально, молодой человек, похвально и полезно для родины».
Из соседней комнаты в это время доносится возбужденный женский голос. На дурном французском языке госпожа Руге отчитывает прислугу.
— Мы умеем ловко высмеивать филистеров, по как сами мы еще далеки от совершенства, от наших идеалов! — морщится Женни.
— Мы! — укоризненно возражает Маркс. — Я не хочу тебя сравнивать с домовитыми гусынями (жест в сторону комнаты Руге).
— Почтенные супруги вроде госпожи Руге презирают меня, считая дурной хозяйкой, и надо признаться — вряд ли когда-нибудь я научусь печь пирожные со сливками и штопать носки мелким стежком, — говорит Женни, состроив печальную гримасу.
Голос госпожи Руге дробит камни стен.
— Десять су! — кричит она. — Десять су за эту дрянь?! Вы с ума сошли или воображаете, что мой муж фальшивомонетчик.
— Уф! — шепчет Женни. — Наш фаланстер мало чем отличается от кухни какой-нибудь трирской госпожи Шлейг. Мне придется дочитывать Вакомутову историю Франции на бульваре, но куда тебе скрыться, мой дорогой, от этого словесного ливня? Не всегда юмором предотвратишь раздражение.
— Пусть, однако, господин Руге усмирит свою супругу.
Лицо Женни становится серьезным. Ночь уже изгнала сумерки. На улице Ванно зажглись газовые фонари. Прохожий продавец в блузе навыпуск и фуражке набекрень громогласно выхваливает свой товар.
Женни отходит в глубь комнаты и принимается убирать книги с маленького стола. Из амбразуры окна Карл следит за ее движениями. Стол наконец накрыт к ужину.
Гервег обыкновенно врывается в комнату Марксов без стука и предупреждения.
Женни, однако, прощает ему это.
— Что требовать от поэтов? Они витают в заоблачных высотах, где пет ни дверей, ни затворов, — поясняет в виде извинения из-за спины мужа Эмма и добавляет игриво: — Не обращайте на нас внимания. Мы, право, не видали, входя, как неистово вы целовались.
Все четверо хохочут так громко и неудержимо, что в дверях появляется Руге, взлохмаченный и одутловатый.
— Ничто не вызывает во мне большей зависти, нежели смех, — говорит он брюзгливо. — Смех — безошибочный признак беспечности, удовлетворения, здоровья, молодости. Я не обладаю ни одним из этих редких даров природы.
Запахнув полы халата, Арнольд садится на диван и молча курит. Вечер проходит быстро, в шутках, спорах. Планы, планы без конца. Подсаживаясь к Руге, Карл становится строгим.
— Ты не выполняешь договора, старина. Напоминаю тебе мое письменное требование. «Немецко-французские ежегодники» должны смело атаковать все существующее — без опаски поссориться с властями. Ты храбрее на словах, чем на деле. Статьи, которые мне приходится редактировать, весьма осторожны.
— Относительно уничтожения частной собственности? — спрашивает Гервег.
— Ого, вы настойчивы, братья по мечу! — питается отшутиться Руге.
— По перу, — поправляет Маркс.
— Ты догматик, Арнольд Руге, — говорит он. — Догма же — тупик, из которого нет выхода.
— Нет выхода только из могилы. А наш журнал в утробе.
— Ну вот, сейчас начнется битва, — огорчается Эмма. — Никто не дерется так жестоко, как единомышленники.
— Так называемые, — бросает Карл.
Руге вскакивает.
— Вы по меньшей мере задира, Карл! Если это не от молодости… вы, того и гляди, скатитесь к крайностям, в тину коммунизма, раньше, чем я мог этого ожидать. Это скользкая наклонная плоскость.
Из соседней комнаты в эту минуту доносится раздраженный голос госпожи Руге:
— Арнольд, Арнольд, иди скорей! Решительно некуда сбежать от натиска гостей. Опять кто-то стучится в подъезде.
— Вот видите, мой друг, — говорит Эмма, вытянув большие ноги вдоль дивана, — я была нрава, отказавшись жить в общей квартире. Это не только привычки индивидуалистки. Оттого, что наши мужья соратники, мы, жены, вовсе не обязаны печь пирожки на одной плите. Скажите, Женни, нашлось что-либо общее у вас с этой вспыльчивой толстенькой саксонкой? Вы настолько превосходите госпожу Руге в умственном отношении…
— И настолько уступаю ей в кулинарном искусстве…
Стук в дверь обрывает беседу. На пороге снова Руге. Рядом с ним, помахивая большой шляпой, стоит нестарый господин в нарядном, снегом осыпанном пальто. Холодная, чуточку надменная улыбка, изысканный светский поклон.
— Вот вам и сам прославленный буян, еретик и безбожник — Генрих Гейне, — объявляет, несколько оживившись, редактор «Немецко-французских ежегодников».
Генрих Гейне зачастил к Марксам. Он полюбил неровную улицу Ванно, маленькую квартирку с окнами, затемненными ветвистым каштаном, приветливую пополневшую Женни, смущенно кутающуюся в клетчатую шаль и неторопливо подшивающую края трогательно маленьких детских распашонок.